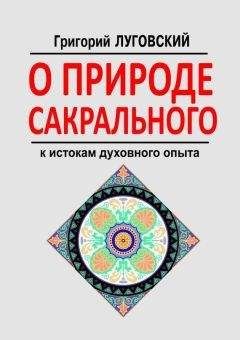71
Б. Вышеславцев – философ, интересный тем, что пытался соединить юнгианство с подлинной религиозностью, считал сублимацию противоположной профанации, значит равнозначной сакрализации. Мы склонны к тому же мнению, отмечая, что сублимация – духовный процесс, сходный с гегелевским «снятием».
А. К. Байбурин. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения// Этнические стереотипы поведения – Л., 1985, с. 17.
Некоторые физики, биологи и лингвисты указывают на прямую аналогию между естественным языком и генетическим кодом (см.: В. В. Иванов. История славянских и балканских названий металлов. – М., 1983, с. 149.), что позволяет предполагать, что в основе живого лежит текст, набор знаков, программа, смысл. А если учесть мысль, что между жизнью и нежизнью нет пропасти, то такую же подоснову можно искать в бытии вообще.
М. Элиаде. Священное и мирское…, с. 75
В. Р. Кабо. Первоначальные формы религии// Религии мира. 1986. М. – 1987, с. 148.
Е. С. Новик. Архаические верования…, с. 154.
Там же, с. 131.
В. Тэрнер. Символ и ритуал. – М., 1983, с. 9.
К. Лоренц. Агрессия. – М., 1994, с. 224.
А. Мень. История религии – М., 1991, т. 1, с. 93.
П. Гуревич. Лебедь, опустившийся на грудь… // «Наука и религия», №1, 1994.
Там же.
Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 1 – М., 1994, с. 71.
Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 1 – М., 1994, с. 72.
Широко употребляемый термин «измененные состояния сознания» (ИСС) скорее следует рассматривать их как «измененные состояния восприятия».
«Змея почиталась вместилищем важной и только ей присущей силы… Эта сила – жизнь, чреватая смертью» (Е. Антонова. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. – М., 1984, с. 156). Змея – символ не только хтонический, но и космический, тем самым манифестирующий идею двух хаосов. Не случайно жреческую функцию в индоевропейском основном мифе (по теории В. Иванова и В. Топорова) представляет змееподобный персонаж.
Пестроте в моей книге «Сатанизм и шаманство» посвящен абзац, который приведу здесь целиком: «Архаический человек, воспринимая мир чувственно-образно, практиковал сопоставление цветовой гаммы с конкретными явлениями и предметами, причем значение пары „цвет-объект“ было далеко от условности, отличалось стабильностью в каждой традиции (В. Тэрнер. Символ и ритуал. – М., 1983, с. 100—103). Маргинальность и неопределенность мифическое сознание закрепляло в такой же цветовой двойственности – пестроте. Наиболее неопределенные, двойственные по природе (свинья – не хищник, не травоядное), а также в энергетическом смысле „сильные“, производящие эмоциональное впечатление животные (змея) определяются как пестрые. Такие существа чаще всего имеют мистическую связь с шаманом, который сам, как о том свидетельствуют некоторые языковые и фольклорные архаизмы, является пестрым (лит. sarkast – врун, лтш. raibaja but – быть пьяным, лит.-польск. Ledvo marga – о человеке при смерти, рум. pistruetul – одно из имен дьявола; все эти слова имеют связь с понятием пестроты). Пестрота выступает метафорой пограничного состояния, а также хаотичности, непознанности. Возможно, особой сакральностью пестроты объясняется приверженность архаических народов к ярким цветам в нарядах (А. Потебня. Мысль и язык. – К., 1993, с. 57—58)».
По этому поводу интересна «Переписка из двух углов» В. Иванова и М. Гершензона – интеллигентов, как искателей сакрального, чей спор весьма характерен.
В. В. Иванов. Чет и нечет. – М., 1978, с. 160.
М. М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле… с. 40.
И. М. Дьяконов. Архаические мифы Востока и Запада. – М., 1990, с. 37.
Эта тема также частично затрагивалась мной в статье «Философия философии».
Традиционный магический акт включает идею обмена в духе: «Мышка, мышка, возьми зуб костяной, а мне дай золотой». Вот как этот обмен схематически выглядит на примере славянских заговоров: «Ч. – человек. МП – мифический персонаж. Ч и ребенок Ч, имеющий бессонницу, вступают в отношения с МП и ребенком МП, спящим нормально, что приводит к желаемой ситуации: Ч и ребенок Ч, спящий нормально, состоит в родственных отношениях с МП и ребенком МП, имеющим бессонницу» (Т. А. Агапкина, В. Л. Топорков. К реконструкции прасляванских заговоров//Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. – Л., 1990, с. 72).
Главное отличие шамана от жреца, в том, что первый – самодостаточная сакральная личность, человек-храм, человек-жрец-и-жертва. Второй же – лишь элемент сложной социальной системы, член корпорации с внутренней иерархией и разделением труда. Шаман действует волюнтаристично, он фактически на равных говорит с сакральными сущностями, вступая с ними в диалог. Для жреца же сакральное уже становится божественным, его сакральное теряет амбивалентную сущность и в нем выделяются злое и доброе начала. Жрец не повелевает, не диктует свою волю сакральному, он может либо выслушивать, либо посылать мольбы и жертвы.
Плотин. Космогония. – М.– К., 1995, с 159.
Патрик Труссон. Сакральное и миф. http://www.nationalism.org/rusaction/lib3.htm.
Цит. по: К. Леви-Строс. Структурная антропология. – М., 1983, с. 186.
Здесь уместно привести известную формулу «бытие определяет сознание». Поскольку бытие осуществляется либо через мерно текущие повторяемые акты, либо через со-бытия, меняющие картину действительности, то чем больше со-бытий, а значит вызовов, тем гибче и богаче сознание. В этой формуле бытие играет роль сакрального, а сознание – сакрализованного, культурного. Тему тождества бытия и сакрального также см. в главе «Сакральное и эволюция»
Вероятно, историк и вообще личность с повышенной тягой к сакральному есть человек, отвернутый от настоящего времени, как профанного, к прошлому и будущему (а в мифе прошлое и будущее фактически едины). Если настоящее действует слишком травмирующе, то неизбежен поиск утешения в истории или утопии (или истории как утопии, т. е. мифе). В этой связи интересна идея Фрейда о неврозе как обращении к архаическим пластам психики. Больное общество, как и невротик, требует сакрального как залога стабильности (состояние болезни = хаос), лекарства, и ищет его в истории и мифе одновременно; интерес к прошлому является поиском в нем ответов, а значит обращению с ним как с мифом.
Религии мира. 1986. – М., 1987, с. 284.
Широко распространен сказочный сюжет об особом течении времени в другом (как правило, в загробном) мире. Герой, попадая на «тот свет», проводит там несколько дней, возвращается и обнаруживает, что здесь прошли многие годы.
К. Хюбнер, Истина мифа, с. 147
К. Хюбнер, Истина мифа, с.148
Классическая работа на эту тему – книга Дж. Кэмпбелла «Герой с тысячью лиц».
Пол Радин считал, что существуют люди с высоким, средним и низким «религиозным чувством». Как правило, люди с высоким уровнем религиозных переживаний, становятся «религиозными формуляторами», объясняя большинству суть того, что те ощущают лишь смутно (С. Токарев. Пол Радин о первобытной религии // Религия первобытного общества в свете современных данных. – Л., 1984, с. 21 – 22).
О теории происхождения истории из инициации см. мою статью в приложении.
О. Ю. Артаманово. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине (по австралийским этнографическим данным). – М., 1987, с. 135.
Современный человек получил доступ к сублимированным сакральным путешествиям, как и человек архаический. Тогда был миф, камлание, первобытная драма, воплощаемая в ритуалах, а ныне они заменяемы интернетом, телевидением, фильмом, книгой, а к камланию, как мне кажется, наиболее близка музыка – эта метафора мятежной души. Современные музыканты не только возродили первобытные экстатические ритмы, но и пользуются лексикой и внешними атрибутами, характерными для шаманских мистерий. Допускаю, что не только музыка сама по себе сакральна, но и любое путешествие (во времени, пространстве, истории, культуре) обладает своим ритмом, логикой развития, подобно шаманскому камланию. У К. Леви-Строса можно найти идею о пении птиц как косвенном источнике человеческой речи и культуры.