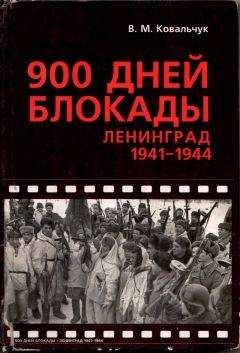Шведская академия, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе, опубликовала документы, из которых явствует, как проводился выбор лауреата премии 1963 г. При рассекречивании архивов вообще выяснилось много интересного. Например, оказалось, что основатель и первый президент Пятой республики генерал Шарль де Голль был одним из 80 других претендентов, удостоившихся номинации на премию по литературе за свою трилогию военных мемуаров. В настоящее время число номинантов ежегодно доходит до нескольких сотен. Так что напрасно некоторые ежегодные выдвиженцы кичатся тем, что значатся в этих списках. Данные о выдвижении на премию становятся общедоступными лишь через 50 лет. Архив содержит расширенный список номинантов, пояснительные записки шведских литераторов, а также высказывания членов Нобелевского комитета в отношении кандидатов на присуждение премии. В короткий список претендентов на премию в тот год попали чилийский поэт Пабло Неруда (Нобелевская премия 1971 г.), ирландец Сэмюэл Беккет (Нобелевская премия 1969 г.), американский поэт Уистен Хью Оден, японский прозаик, поэт и драматург Юкио Мисима, датско-норвежский новеллист Аксель Сандемусе, а также греческий поэт Йоргос Сеферис, который в конечном итоге и стал обладателем премии. Обсуждалась и кандидатура Евгения Евтушенко.
За Сефериса все высказались единогласно. Постоянный член Шведской академии Андерс Эстерлинг посчитал, что, наградив премией Сефериса, «академия получает полноценный повод воздать должное современной Элладе, её языковой сфере, которая очень давно ожидала своего лаврового венца».
Именно Эстерлинг в тот год блокировал кандидатуру Набокова: «Автор аморального и успешного романа «Лолита» ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию», - категорично высказался швед.
Интересно, обругают апологеты «Лолиты» академиков последними словами или почтительно промолчат?
Виктор БАШКАТОВ
Теги: Нобелевская премия , Владимир Набоков
Счастливица с трудной судьбой
Аграновская Г.Ф. В поезде дальнего следования. Проза. Воспоминания. Заметки на полях. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2013. – 208 с.: ил. – 300 экз.
Хорошо помню, как в послевоенный год появилась у нас в Литературном институте в скромной секретарской роли прелестная жизнерадостная Галя Каманина, быстро приобретшая поклонников и воздыхателей самых разных возрастов, что было запечатлено даже в местном фольклоре – шутливых песенках. Вскоре она стала женой уже известного поэта Павла Шубина.
Со стороны глянуть: благополучнейшее создание, счастливица!
Но Павел Шубин, прошедший жестокую войну, когда думалось, как сказано в его стихах, "мне б только до той вон канавы полмига, полшага прожить... А там я всю жизнь проживу!" – оказался из тех, кто потом, по горестному выражению собрата-ровесника, «заторопились умирать». Так и Шубин в роковые для русских поэтов 37!..
Только много лет спустя узнал я, что это было совсем не первое в её жизни горе. Отец – Фёдор Георгиевич, писатель – угодил (если воспользоваться названием одной его книги) в «волчий лог» сталинского террора.
«В ту ночь, осенью 1937 года, кончилось моё детство, – скажет Галя через десятилетие. – ...Маму уволили из школы. Меня в классе дразнили «врагом народа».
Им вроде ещё повезло: «Через 13 месяцев и две недели вернулся наш отец домой... истощён, беззуб, кашлял всё время». А тут война! Оказался в плену. Семью угнали в Германию, где девочка работала на военном заводе.
Обо всём этом можно прочесть в её собственной книге воспоминаний «Пристрастность» (М., 2003), где, правда, больше – о родителях, а потом – о Шубине и его друзьях-поэтах, о новом муже – Анатолии Аграновском, ставшем одним из ярчайших очеркистов и публицистов нашего времени, который поднимал самые насущные, зачастую острейшие проблемы. И о людях, с которыми сводила жизнь, – поэтах Арсении Тарковском, Александре Галиче, Борисе Слуцком, Ярославе Смелякове, врачах Эдуарде Канделе и Святославе Фёдорове...
Собранное в новой книге свидетельствует, что, как говорила Галина Аграновская, она ещё отнюдь всю себя «не опорознила» (точное словечко, услышанное от одной северной сказительницы). Всё при ней – и наблюдательность, и юмор, и желание вмешаться в иные современные проблемы. Всё это живо ощутимо в её прозаических опытах. Как говорил горьковский герой, «тому помешать, этому помочь».
Андрей ТУРКОВ
В эти дни выходит книга И.М. Ильинского "Живу и помню" - суровое повествование жителя блокадного Ленинграда, на детские годы которого выпали первые самые страшные 323 дня фашистской осады города: беспрерывные бомбёжки и артобстрелы, невыносимый голод и небывалый даже для северных мест холод. Автор рассказывает о долгом и драматичном пути их блокадной семьи в далёкую таёжную деревеньку Петушиху Новосибирской области, о семи трудных годах жизни семейства в непривычных для городского жителя условиях таёжной глухомани и нравах деревенского быта военных лет.
Ныне И.М. Ильинский – ректор Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор, действительный член Академии российской словесности, Академии естественных наук, Академии военных наук.
Отъезд из Петушихи наметили на осень: надо было продать дом, корову, кур, собрать какой-никакой урожай на огороде, часть его сдать государству. Всё это чего-то стоило. Пенсия за погибшего на фронте папу была небольшой, а сколько денег нужно на билеты до Ленинграда и житьё-бытьё в разгромленном городе хотя бы для начала, не представляли ни мама, ни брат Олег. На счету была каждая копейка.
И тут случилась новая беда, хоть мы ещё не отошли от первой[?]
Наша корова Зорька, скотина умная и послушная, словно почуяв близкое расставание с хозяйкой, стала вдруг понурой и печальной, а в тот памятный день под вечер отбилась от стада, да так аккуратно, что тугоухий пастух Кирьян и не заметил, как она убрела в тайгу. Иногда и прежде случалось, что Зорька приотставала от своих подруг на опушке близкой от дома рощи, но только крикнет мама: «Зорька, Зорюшка-а-а!», как тут же слышалось ответное «м-м-у-у-у…» и Зорька неторопливо, словно боясь расплескать молоко, накопившееся за день в её большом розовом вымени, величаво двигалась к калитке нашей ограды, рогом отворачивала деревянный запор и подходила к маме с видом истосковавшейся подруги. И мама радостно гладила её по смолистой с белыми пятнами шее, ласково приговаривая: «Зоря, Зоренька, Зорюшка»… Вскоре из коровника слышалось, как дзинькают тугие струи молока об оцинкованный подойник, как заполошенно кудахчут куры, взлетая ночевать на насест, и что-то недовольно выговаривает красавец-петух последней из отставших хохлаток. И вот уже мама несёт в избу ведро пахучего парного молока, а мы с Иринкой сидим за столом, наломали тёплого хлеба и ждём, когда, процедив сквозь белую марлю вечерний удой, мама разольёт парное молоко по кринкам, а потом до краёв наполнит и наши глиняные кружки…
В тот вечер мама звала Зорьку долго и отчаянно, в ответ ни звука. Уже начинало темнеть, мы кинулись в луга, кричали до хрипоты – без толку. Утром нам помогали искать Зорьку все, кто мог. И только вторглись в тайгу, нашли… Шкура да обглоданная голова – вот и всё, что осталось от нашей Зорьки. Старики определили: напал медведь, ну а ночью остатки Зорюшки изглодало остальное зверьё, водившееся в петушихинской тайге…
Это был удар по всему нашему образу жизни: корова в деревне – почти как член семейства и его кормилица. Из Петушихи нам надо было теперь не просто уезжать, а бежать, и как можно быстрее.
Председатель колхоза Терехов ударился в жуткую панику, ни в какую не хотел отпускать Олега: на носу был сенокос, а следом уборочная страда. Колхоз без тракториста?.. Тут председателю головы не сносить. Терехов предлагал маме от колхоза всё, что угодно: и молоко, и мясо, и муку, и всё, что нужно для пропитания семьи, умоляя: «Ивановна, уважь, ну потерпи до ноября!.. Войди в моё положение… Бедко мне, Ивановна! Спасу нет мне без твово сына, уважь…»
Словно чуя беду, мама не сдавалась. Но беда не любит одиночества: на того, кто в беде, все несчастья валятся.
Из Ленинграда пришло письмо, в котором сообщалось, что в доме на Кировском проспекте, где нам была выделена квартира, взорвалась бомба, пролежавшая долгое время после какой-то из бомбёжек. Дом разрушен. Для нашей семьи подыскивают другую квартиру и, как только подберут, сообщат нам. А пока с переездом надо повременить.
Мама пала духом, а Терехов воспрял, снова загнал Олега на полевой стан, но слово своё держал: колхоз каждый день выдавал нам нужные продукты. Всё бы вроде ничего, живи и жди письма скорого из родного города, но оно не приходило…