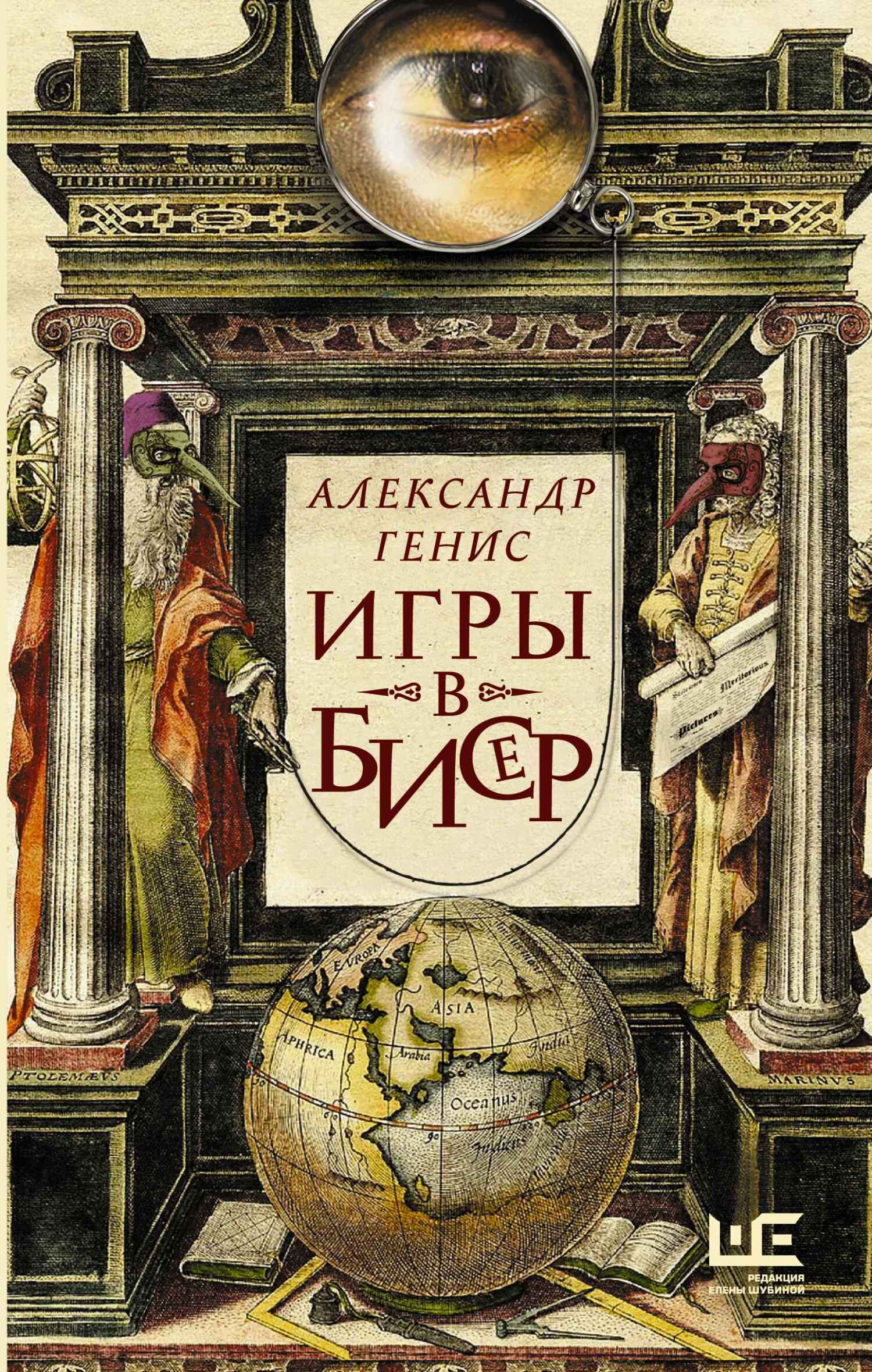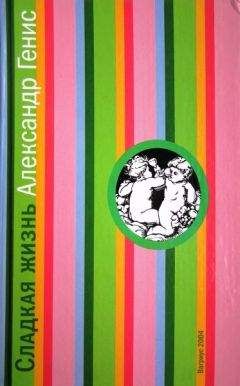воссоздавал в “Улиссе” родной Дублин, не желая в него возвращаться.
Оргия перечней в “Мертвых душах” напоминает тяжелый предутренний сон, когда ты, уже готовый встать, влипаешь в него раз за разом и невольно всматриваешься в увиденное, которое никак не исчерпывается. Скажем, интерьер берлоги Плюшкина Гоголь представляет читателю с такими бесконечными по- дробностями, что теряется всякая иллюзия правдоподобия.
“На бюро <…> лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, <…> лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами <…> два пера, запачканные чернилами, высохшая, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов”.
Лишь вооруженный подсознательной оптикой сна автор смог разглядеть рюмку именно с тремя, а не двумя или четырьмя мухами. Гоголь так ценил этот литературный транс, что, пока государь не снабдил его деньгами, готов был голодать, но не покидать Италии. Не объясняя толком причины, он уверял, что может писать свою поэму только среди иностранцев, где “ни одной строки не мог я посвятить чуждому”.
Может быть, потому, что, описывая Русь, он не боялся в ней проснуться.
5. Мнительный
Давно замечено, что в романах Достоевского завязку часто следует искать за границей, а развязку – дома. Возвращаясь в Россию, его герои несут в себе зерна конфликта, посеянные за рубежом. И началось это с первой поездки писателя, описанной в серии фельетонов “Зимние заметки о летних впечатлениях”.
Последних, однако, там практически нет. Жанровая особенность этих заметок неожиданно напоминает кумира предыдущего столетия Лоренса Стерна. Он тоже умудрился толком ничего не сказать о посещенных им странах в своем якобы травелоге “Сентиментальное путешествие по Франции и Италии”.
Но там, где Стерн дурачился, Достоевский размышлял, причем не о Европе, а о России. Даже оказавшись в положении иностранца, он будто не покидал отечества.
Достоевский реагировал на Запад заранее, задолго до того, как попал в “страну святых чудес”. Вырывая эту цитату из стихотворения Хомякова, он намекает на содержание всей строфы:
О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
Самый образованный из славянофилов, Хомяков хоронит Европу, чтобы освободить место для пока “дремлющего Востока”. В отличие от Достоевского, он прекрасно знал Запад. И писал о нем проникновенно. “В Англии тори – всякий старый дуб”, а иногда странно: англичане – те же угличане.
Достоевский, вооруженный подозрением к Западу, меньше всего интересовался тем, зачем сюда ездили другие, вроде английских туристов с их “машинальным любопытством”. Он его не разделял и смешно отзывался о тех самых “святых чудесах”, которыми он якобы приехал любоваться. Кёльнский собор – “галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою”. Музеи полны зеваками, которые “глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации”.
Самого Достоевского интересует другое, хотя и непросто понять, что именно. В иностранцах он ищет, к чему прицепиться, исповедуя презумпцию виновности. (Один из его многих наследников Дмитрий Галковский писал, что русскому “подсовывают фальшивый вексель, но русский не верит и векселям настоящим”.)
За границей Достоевский ждет унижения от всех встречных, будучи уверенным, что на русских тут смотрят искоса и с презрением.
“…Мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», – подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, – ну так ты червь перед нашим мостом…»”
В ответ автор говорит про себя “черт возьми, мы тоже изобрели самовар”, не догадываясь, что на него не без основания претендуют турки.
Но Запад все же пригодился Достоевскому. Тут он нашел или придумал несколько прототипов для своих будущих героев. В лондонских трущобах автор увидал “девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках”. (Привет Ставрогину.) А во Франции, которой досталось еще больше, он разглядел, как буржуа “замазывает дырочки на сапогах чернилами, только бы, боже сохрани, чего не заметили!”
Эти мстительные детали мастерски создают русскую картину Запада, с которым Достоевский поссорился еще до того, как с ним познакомился, и этого ему не простил. Чего Запад, надо сказать, не заметил.
Мнительность так и осталась первой чертой, выдающей за границей соотечественников. Где бы мне ни довелось встречать соотечественников, я узнаю их по общему недовольству окружающим и пресыщенному выражению лица. Сперва – “а то мы этого не видели”, в конце – “грязно и воруют”. Как и Достоевский, они постоянно ждут оскорбительного взгляда аборигена и всегда готовы дать отпор в превентивной войне с иностранцами, которыми, собственно, они тут сами и являются.
6. Гастарбайтер
В Америке никаких иностранцев нет. Вернее, здесь все иностранцы, если не считать индейцев. Одного я хорошо знал. Он работал у нас на “Радио Свобода” индейцем. Принятый на службу по федеральной разнарядке, он целыми днями сидел неподвижно, как бронзовая статуя краснокожего, которой я любуюсь каждый раз, когда забредаю в американское крыло музея “Метрополитен”.
Остальные – пришлые, и в Новом Свете многие об этом не забывают. У меня есть знакомый программист Ван дер Хаве, в офисе которого висит генеалогическое дерево, уходящее корнями в эпоху Вильгельма Оранского.
А недавно позвонила из Южной Америки дама с сильным акцентом и моей фамилией, которая разыс- кивала родичей в Америке Северной. Найдя меня, она на радостях пригласила в Рио-де-Жанейро, где уже есть полкладбища Генисов.
В самом начале американской жизни мой брат встречался с новой эмигранткой под пышным именем Гладис Палацос. Услышав их беседу на школьном английском с двумя акцентами, прохожий заинтересовался происхождением парочки.
– Я родился в Киеве, – сказал Игорь.
– А я – в Лиме, – добавила девушка.
– Америка! – удовлетворенно заключил американец.
Считается, что “в плавильном котле” из гремучей смеси иностранцев рождалась новая нация, только я этого не заметил. Живя здесь почти полвека, я так и не нашел настоящих американцев и сам им, конечно, не стал.
– Куда тебе, – сказал мне поэт, с которым мы подружились на экскурсии в Пушкинских Горах, – ты там не иностранец, а гастарбайтер, приехавший в богатую Америку на заработки, а не для того, чтобы стать своим. Твое место – в русском алфавите, который ты же сам и считаешь родиной.
– Вряд ли, – возразил я, – меня всюду принимают за иностранца,