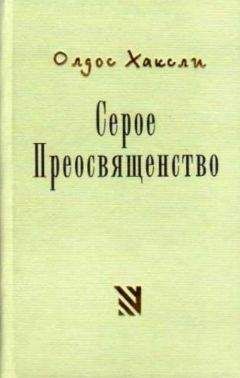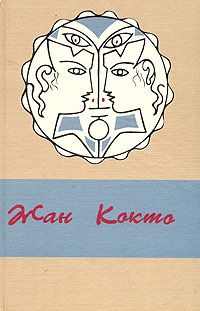Перед нами классический случай искушения, адресованного незаурядным душам. Текущее управление теми, кто ведет животную жизнь, можно предоставить Велиалу:
А Велиал, из падших духов самый
Распутный, самый — после Асмодея —
Плотской Инкуб, дает совет:
«Поставим Жену в очах Его и на путях».[44]
Но пытаясь уловить избранных, бессмысленно наживлять крючок столь осязаемыми, столь откровенно неидеалистическими червями.
…Сколь многие из смертных
Смеются всем соблазнам красоты,
Презрев ее уловки и атаки,
И к высшим устремляются вещам.
Итак, заключает Сатана, —
Итак, вещами большей доблести
Мы искусим Его — где ярче блещут
Почет, хвала народная и слава
(Об эти скалы лучшие разбились).
При посредстве испанского правительства Сатана подступился к отцу Жозефу, но потерпел неудачу. Монах был хорошим французом и опасался иностранцев et dona ferentes[45]. Он был к тому же (что намного существеннее) и хорошим капуцином и потому с опаской относился вообще к деньгам.
Угадать реакцию Ришелье на подобное предложение не так просто. Он был таким же хорошим французом, как отец Жозеф; но в ту эпоху многие хорошие французы не гнушались солидными подарками и субсидиями от иностранных правительств. Тогдашние понятия о чести и морали не осуждали такую практику, обычную для аристократов всех европейских стран. Поэтому Ришелье, скорее всего, не нашел бы причин отвергать предложенный куш, тем более что такой шаг, при его взглядах, ни к чему бы его не обязывал. Он принял бы взятку со спокойной и общественной, и политической совестью. Что же касается человеческой совести, то она бы не смутилась ни на секунду. К деньгам он относился без всяких стеснений и беззастенчиво потакал своей алчности. Если у него и были стеснения, то главным образом сексуальные. Он высоко ценил воздержание — потому, безусловно, что низко ценил женщин. «Женщины, — говорил он, — весьма странные существа. Иногда кажется, что раз они неспособны принести хоть какую-то пользу, то неспособны причинить и большой вред; но я ручаюсь, что в способности погубить государство с ними ничто не сравнится». Ясно, что Велиала кардинал мог опасаться не больше, чем наш монах. Но вот с Маммоной, демоном богатства, и Люцифером, князем гордыни и властолюбия, дело обстояло иначе. Ришелье снедала сильнейшая похоть власти. Реальной власти ему было мало; он жаждал и ее внешних атрибутов. Есть рассказ о том, как его дядя Лапорт был свидетелем встречи Ришелье и герцога Савойского, когда кардинал проходил в каждую дверь раньше герцога. Свой восторг старик высказал в своеобразном «Ныне отпущаеши»: «Подумать только, — воскликнул он, — что внук адвоката Лапорта проходит впереди внука Карла V!» Под своей холодной, бесстрастной маской кардинал ликовал не менее бурно, чем его дядя-буржуа. Такие триумфы были для него очень важны.
Не менее важны для него были и триумфы, которые покупались за деньги, — дворцы, слуги, столовое серебро, библиотеки, роскошные банкеты, пышные «маски», хореографами которых были епископы, а зрителями — королевы и принцы, вельможи и послы. Врожденная жажда богатства росла с каждым новым глотком. В речи кардинала перед Генеральными штатами в 1614 году есть пассаж, звучащий в свете его последующего поведения крайне комично. Разглагольствуя о желательности использования священников в государственных делах, он заявил, что духовенство «свободнее, нежели прочие люди, от частных корыстей, столь часто вредящих обществу. Храня обет безбрачия, они не оставляют иных наследников, кроме собственной души, и не копят земных сокровищ». К 1630 году говоривший имел официальный доход в полтора миллиона ливров от одних только церковных бенефициев. Основные и побочные доходы вместе с разными мелочами приносили еще четыре или пять миллионов. Из годового дохода на себя он тратил по четыре миллиона ливров (ежегодная субсидия Франции шведским союзникам была меньше миллиона), а в конце каждого года откладывал столько, что смог оставить своим племянникам и племянницам состояние в несколько десятков миллионов. Учитывая, что покупательная способность ливра в начале семнадцатого века равнялась семи или восьми золотым франкам, приходится признать, что для человека, чье занятие не поощряет «накопление земных сокровищ», кардинал справился вполне недурно.
В число «вещей большей доблести», которых вожделел Ришелье, входили не только деньги и власть. Его терзала жажда литературной славы. Он содержал артель из пяти поэтов, которые должны были писать пьесы по его планам, а когда один из них, Корнель, написал «Сида», кардинала замучила зависть, и перьями нанятых критиков он пытался доказать, что трагедия нисколько не заслуживает выпавшего ей успеха.
Случай Ришелье, как ясно из его биографии, не составил бы трудности для Искусителя. Сатана «Возвращенного Рая» ненамного умнее бедняги Велиала; но чтобы выудить столь откровенно алчную щуку, какой был кардинал, требуется лишь самый минимум хитрости. Любая из традиционных «вещей большей доблести» годилась в наживки для Ришелье. Отца Жозефа, напротив, мерцание этих жестяных блесен нисколько не манило. Для него требовалась наживка более тонкая — нечто более ценное по своей сути, чем власть, деньги, слава, какое-то намного более убедительное и привлекательное, нежели «вещи большей доблести», подобие истинного Блага. О таких искушениях Сатана «Возвращенного Рая» не говорит ни слова — потому, разумеется, что сам автор поэмы не подозревал об их существовании.
И от природы и благодаря пуританскому воспитанию, Мильтон был гордым стоическим моралистом. Усердно культивируя самодостаточность и «самоуважение, основанное на праведном и правом», всю жизнь он прожил в счастливом неведении того, что религия есть прямая противоположность самодостаточности и самоуважения — а именно, безоговорочное подчинение Богу, который не просто многократно увеличенный добродетельный пуританин, но и качественно иное существо, несоизмеримое с человеком даже в самих высших и праведных его проявлениях; несоизмеримое, и все же снисходящее до встречи с теми, кто готов выполнить условия, при которых эта встреча может состояться, — кто готов принести в жертву все элементы своей личности — как постыдные, так и самые достойные. Христос Мильтона ни разу не называет окончательной и безусловной причины, заставляющей его отвергнуть и богатство, которое помогло бы ему «творить добро», и власть, с помощью которой он установил бы «царство небесное». Эта причина — в том, что Сын Божий таков, каков он есть, лишь благодаря непрерывному и совершенному переживанию Божественного присутствия; и в том, что к непрестанному и совершенному переживанию Божественного присутствия неспособна душа, поглощенная богатством или властью. Поэтому «Возвращенный Рай» — на удивление неинтересная и бестолковая книга. Его верифицированные рассуждения — это многословные схватки между Сатаной, то есть Джоном Мильтоном в его безоглядных мечтах («он был, сам не зная того, сторонником Дьявола»[46]), и Спасителем, то есть тем же Джоном Мильтоном, но уже в его идеальном варианте, в своего рода исправленном и роскошном издании.
По-настоящему умный Сатана прочел бы жития святых и сочинения мистиков, а прочтя, понял бы, как обращаться со столь искренними и набожными искателями совершенства, как отец Жозеф. И разумеется, в отличие от мильтоновского измышления, реальный Сатана понимал, как обращаться с монахом; поскольку реальный Сатана — это та часть каждой личности, которая мешает этой личности умертвить свою самость и воссоединиться с высшей реальностью. Поэтому ум, проницательность, духовность Сатаны всегда точно пропорциональны уму, проницательности, духовности того человека, в котором он действует. Сатана Мильтона обладает умом, проницательностью и духовностью великого поэта, который был еще и гордым, страстным стоиком; Сатана Ришелье — свойствами великого политика, исповедующего похожую стоическую этику, но с намного меньшим успехом обуздывающего свои более темные и разрушительные страсти. Сатана, соблазнявший отца Жозефа политикой, — нечистый иного и более интересного рода. Его задачей было искушение человека, не только давшего обеты бедности и смирения, но и натренированного — годами теоцентрических духовных упражнений — до состояния, в котором он искренне не желал денег и был более или менее равнодушен к власти. О славе же — прижизненной или посмертной — отец Жозеф совершенно не заботился. Как политик, он трудился без картинности и шума, намеренно держась в тени; как автор, искал анонимности, а большинство своих сочинений предпочел оставить неизданными. Одним словом, рядовые «вещи большей доблести», которыми соблазнялись люди исключительных способностей, его нисколько не привлекали. Чтобы поймать этого человека, нечистому нужно было стать намного умнее и тоньше, чем Сатана «Возвращенного Рая».