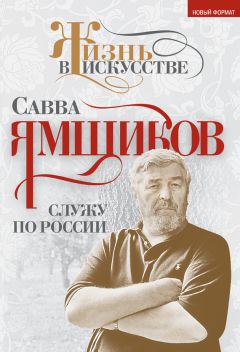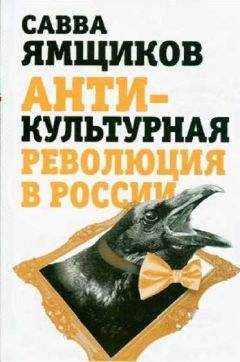Я приручала бы избранных: Пиратов и рыбаков, Тем, кто бросает вызов, Кому не писан закон.
А ещё ко мне придут дети, Эти, солнцеголовые! Пусть их прибрежный ветер В тёплые сети ловит.
Я подойду осторожно, Кружево пеной рисуя, И поцелую ножку — Маленькую, босую…
И от нежданной ласки
Ввысь полетят смешинки.
— Здравствуй, — скажу я, -
здравствуй!
Какие мы оба большие!
… И однажды, сроднившись с дождями И устав от земной суеты, Неожиданно и долгожданно В час рассвета придёшь ко мне ты.
Улыбнёшься, ко мне привыкая, Отражу — в миллионах зеркал! И — как воздух:
"Так вот ты какая!", Чуть печально: "А я и не знал"…
* * *
Ожидание стало привычкой. Воскресенье зависит от даты. Честь и совесть берутся в кавычки И расходятся на цитаты.
И не зная, что верба в апреле С семилетнею девочкой схожа, Виртуальных миров менестрели Объявляют: "оазис исхожен".
Но друзья мои всё ещё любят Споры за полночь, землю и небо, И нежнее становятся люди В день рождения первого снега.
В мокроглазом купе у вокзала Можно взять у разлуки отсрочку. И старушка вчера мне сказала: "Не горюй, всё наладится, дочка".
"Стоит над горою Алёша — в Болгарии русский солдат".
К. Ваншенкин
Всё поёт. Мне добавить нечего В этот хор.
Так секунда вступает с вечностью В разговор.
Я люблю тебя всеми жилами, Всей душой,
И смертями всеми, и жизнями, Мир большой!
Надоело быть вовсе лишнею, Быть одной.
Вон стоит — выше света вышнего — Брат родной.
Новым даром, новым спасением, Новым днём. И слагают сады весенние Песнь о нём.
Потянулась к нему руками я — Не достать!
Для чего обернулась каменной Эта стать?
Я тебя бы, Алёша, веришь ли, Век ждала
И за всех бы девчат теперешних Обняла!
Луч дрожит на щеке морщинистой, Грань дробя.
Между нынешними мужчинами Нет тебя.
Синий звон ложится на плечи, и Всё поёт.
За одну секунду до вечности — Твой полёт.
АЛЕКСЕЙ МУРЗИН
ЧЕЛОВЕЧЕК БОЖИЙ
РАССКАЗ
В автобусе потемнело незаметно, как это всегда бывает в дороге. Вместе с блекнущими красками мира истаяла, улетучиваясь, мучившая Диму тяжёлая дорожная дремота. За окном ещё ближе к дороге подступил потемневший, ставший загадочным, вековой сосновый бор. Впереди блестит красным золотом прямая, как стрела, лента шоссе. Водитель не включает внутреннее освещение, и Дима без сожаления убирает книгу, которую, борясь со сном, пытался читать.
От нечего делать Дима без интереса осматривает тёмное пространство, отделённое синеватым сиянием нечистых окон от забортного холодного морока. За высокими спинками кресел никого не видно, и Дима внимательнее поглядывает на соседа, сидящего рядом. Парнишка лет десяти всё ещё упрямо глядит в книгу. На вокзале, там, в далёком уже городе, они полчаса ждали автобус, стоя под навесом остановки вместе с десятком таких же ожидающих. Этот паренёк вошёл в автобус последним, пропустил даже тех, кто подбежал уже перед самым отправлением. Диме потом пришлось встать, чтобы пустить его на законное место, согласно билету, на чём тот упорно настаивал.
На коленях попутчика, поверх серой холщовой хозяйственной сумки, раскрытая книжка в мягком переплёте, и он то ли читает, то ли спит, согнувшись. Дима, напрягаясь, приглядывается. Разобрать текст нельзя: "Как только он умудряется?" Парнишка, смущённый этим интересом или же просто утомлённый теменью, вздохнув, убирает книжку в сумку.
МУРЗИН Алексей Никитич родился в 1973 году в Курганской области. Литературное творчество начал с краеведческих заметок и очерков в местных газетах. Рассказы печатались в журналах "Подъем", "Тобол", "Байкал" и других. Автор книги прозы "Старое поле". Член Союза писателей России. Живет в г. Шадринске Курганской области
— Что ты такое читал? — вопрос для самого Димы показался неожиданным: "Что тебе надо-то, молчал бы уж", — мысленно упрекнул он себя. Но хотелось какой-то активности, пусть даже и разговора.
Паренек крепче сжал свою поклажу.
— Это Житие Святого Иоанна Кронштадтского, — не громко, но и совсем не робко заявил он.
"0 чём это я с ним говорить-то собрался, ведь видно же, не от мира сего парнишка. Едет один, последним рейсом за сотню километров… Кто бы меня без провожатых в его-то годы отпустил?" — думает Дима.
— И чем же прославил себя этот святой? — возникает какой-то ехидный и опять неожиданный вопрос.
— 0, это Великий Святой Земли Русской! — торжественно заявил собеседник, "окая".
"Ну, и что теперь скажешь? 0н же считает, что про этого Иоанна все знают, а ты теперь, стало быть, вроде как совсем лопух. Сам виноват. Кто тебя за язык-то тянет?"
— А ты что, совсем один едешь? — "Да, чтоб тебя!", — снова запоздало одёргивает себя Дима.
— Да, — отвечает парнишка.
— Что так поздно?
— В школе был. Раньше не мог…
— А родители отпустили?
— Угу… — как-то подозрительно нерешительно отвечает он.
— И куда ты?
— К отцу Александру, он мой наставник, — гордо объявляет попутчик.
— А звать-то тебя как? — "Во как! Наставник… А интересно, кто это?" — разговор начал увлекать.
— Меня Пашкой звать.
— А я Дмитрий.
— Хорошее имя, как Дмитрий Донской! — оживился Пашка.
— Чем же ты таким занимаешься? Книги вон какие читаешь? Наставник есть у тебя. У меня вот нету.
— В церкви пою, и помогаю тоже. Там ведь много работы.
— Я прошлым летом тоже в церкви был. Практику проходили по гидрологии. Идём по деревне, ну и в церковь зашли. Красиво. Только людей почти не было. Мы, студенты, да несколько старушек. А вообще-то мне в церковь ходить не положено. У меня все предки староверы, то есть двоеда-не. Я и крещён не в церкви.
— Не люблю я этих двоедан. Зарылись, как черви, и сидят в своих скитах, — прервал рассказ Пашка.
— И чем же они так плохи, двоедане-то?
— Злые они больно и от людей уходят, не хотят с людьми жить. Молятся сами про себя, на всех им наплевать, — резко заявил Пашка.
— А мне казалось, все православные объединились, — заметил Дима.
— Ну и что, всё равно эти двоедане не покаялись…
— … А я на учителя учусь, — вдруг признался Дима.
— Учителя люди умные, только не понимают ничего, — глядя в окно, сказал Пашка.
— Что, в школе обидели?
— Нет. Только я из-за этой школы службы пропускаю… Впереди замерцали огни родного Диминого города.
— А где тут церковь? — спросил Пашка.
— Тут их три. Тебе в какую?
— Мне… к отцу Александру надо.
Автобус въезжает в пригород. Тянутся в тусклом фонарном свете ряды гаражей, мелькают разноцветными занавесками зажжённые окна частных домов.
Всё ярче и отчетливее на фоне тёмного неба прорисовывается подсвеченный силуэт старинной водонапорной башни, здесь автостанция, окончание пути.
— Ну, и куда тебе дальше? — спрашивает Дима, когда автобус остановился.
— К отцу Александру… — тихо ответил Пашка.
"Вот ведь заладил? Чучело…", — усмехнулся про себя Дима.
— Ты бывал у него раньше-то?
— Нет. Первый раз приехал.
Диме стало тоскливо: "Всё-таки вляпался с этим попутчиком. Придётся идти его провожать… Не бросишь же одного мальчишку в чужом городе".
Дима широко шагает впереди. Пашка семенит за ним, держа в руках книгу Жития Святого Иоанна Кронштадтского. Когда они вышли к церкви, было уже совсем темно. И к ночи крепко подморозило.
Они обогнули решетчатую ограду и вошли в распахнутые наполовину ворота. Лампа с деревянного столба слабо освещает чисто выметенную площадку перед папертью, белые церковные стены, невысокий забор с калиткой и угол дома.
— Храм-то какой! — восторженно говорит Пашка. Он снимает шапку и начинает креститься.
Дима молча смотрит на Пашку, озирается кругом.
— Паш, а ведь тут закрыто, — он показывает на внушительный замок на кованых церковных дверях, — может, в доме спросить?
Они вошли в калитку, Пашка стучит в дверь. Никто не выходит. Дима в нетерпении сам начинает колотить кулаком в дверь.
— Кого надо? — приглушенно скрипит из-за двери старушечий голос.
— Як отцу Александру, он мой наставник. Я Пашка, — выкрикнул попутчик Димы.
— Нету его туто, он тамо живёт, за оградой. По праву руку, второй дом.
— Спасибо.
— Вот и хорошо, — Дима не скрывает радости, — я ведь боялся, что придется по всему городу с тобой рыскать.