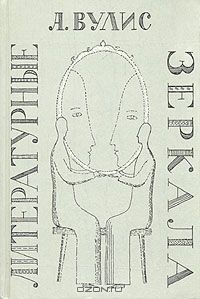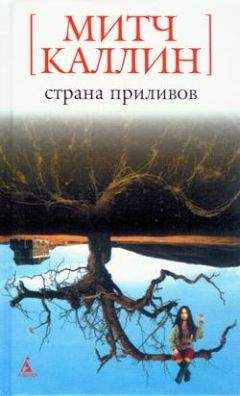Зеркало в этом разговоре о пародии — метафора. Не то что зеркало-предмет (или зеркало-прием) в предшествующих главах. И все-таки говорить о нем как о зеркале вполне законно до тех пор, пока удается избегать противозаконного: слова передают тот смысл, который в них вкладывается, фраза обладает реальным содержанием, обрисовывает действительные процессы, соотносится с подлинным жизненным материалом (если понимать в данном случае под жизнью — литературу).
Войдем в творческую лабораторию пародиста. Натянут умозрительный холст, и автор ищущим взглядом обшаривает комнату — разумеется, тоже умозрительную — в поисках натуры. Увы, она пуста. Остров, на котором обосновался наш пародист, сами понимаете, необитаемый. Но пародист как будто и не собирается унывать. Призадумавшись на несколько мгновений, он решительным жестом берет со стола повесть, дочитанную только вчера.
Он — пародист. Никакой другой «натуры» ему не нужно! Повесть — вот его «натура»! И начинается работа, сопоставимая с конструкторской. Точка А, которая торчит на самом виду у зрителей, получает на холсте эквивалент, еще более приметный. Отыскивается место и для точки В. Хотя она в повести как бы задвинута на задворки, с ней связаны самые задушевные думы сочинителя. Кроме того, ее пространственный альянс с точкой А несет важную информационную нагрузку: одна звезда на небосводе — это просто какая-то звезда. Две (еще лучше — три) звезды — одна на определенном расстоянии от другой, с отрегулированными степенями яркости, градусами траекторий и т. п. — это созвездие. Подобраны позиции для точек С и D…
И теперь пародист дает волю своей фантазии. Карандаш (или кисть) вольно гуляет по полотну — влево, вправо, вверх, вниз. АН нет, остановка! Сверка курса! Уточнение координат! Нельзя в пародии выламываться из принятой системы отсчета — разумеется, в чистой пародии — той, у которой нет иных целей, кроме пародийных…
Такая скрупулезность в передаче сходства — с документальной фиксацией значимых моментов; такая верность законам начертательной геометрии, с ее перпендикулярами, опускаемыми из плоскости в плоскость; такая забота о полном подобии обеих фигур: «натуры» и «двойника»; столь прочный и обоснованный союз реального прототипа и его отражения — где еще, кроме зеркала, мы все это найдем? А в литературе — где еще, как не в пародии?! Так что правомерно завершить сей пассаж выводом: по своей «методе» пародия — это зеркало зеркала, а зеркало — пародия на пародию.
«Предъявите, пожалуйста, документы!»
Существует внутренняя близость между пародией и современными репортажными жанрами (родство, кажется, никем еще в полный голос не отмеченное). Отправной материал в обеих изобразительных системах воспринимается и подается как «источник», как документ.
Стремится сохранить в неприкосновенности «правду материала» очерковый жанр — путевые и этнографические заметки, в частности. Отсюда приверженность этой литературы к фотографиям. Без наглядной аргументации не обходятся ни «Одноэтажная Америка», ни Даррелл.
Особенно заметна цитатная трактовка реальности в телевизионных передачах — некоторые части программ (скажем, отчеты о спортивных состязаниях, матчах, спартакиадах, пресс-конференциях, дипломатических приемах и встречах) представляют собой сплошную неостановимую цитату из жизни. Документальные фильмы оперируют «кусками действительности» сдержаннее, ограничивая вторжение фактического материала за счет монтажа, публицистики, художественных тропов.
Пристрастие художника к прямым ссылкам на действительность (если возможно, то на «письменную», протокольную) перебрасывается с очерковой прозы на чисто художественную, «вымышленную». Вот произвольные, но достаточно характерные примеры: очеркист, вырастающий в художника, — Ю. Черниченко; художник, живущий «очерковостью», — Дос-Пассос. Любопытно, что там, где романисту (но не очеркисту) недостает подлинного документа, используется имитация, псевдодокумент, претендующий, однако, на подлинность. К подобной практике широко прибегают В. Богомолов, Ю. Семенов в авантюрной прозе, Б. Окуджава, Ю. Давыдов — в исторической.
Все эти литературные феномены жаждут трансформироваться в полное, «честное» отражение, нащупывают пути к своему слиянию с естеством и обществом — к синтезу зеркала с натурой.
Закономерная тенденция реализма! Реализм в своей практике — грубо говоря — изначально солидаризуется с зеркалом. При всем том он является еще многим: мировоззрением, психологией, философией, спектральным анализом, раем, адом, чистилищем, исповедью, молитвой, проповедью и Страшным судом.
А уж пародия вся растворена в зеркале, как Дон Кихот — в своей одержимости. Нет у нее другого выбора и другой мечты — только быть зеркалом. Впрочем, даже если бы и была другая мечта — что толку: мосты к альтернативным возможностям все равно сожжены, новые же мосты уведут пародию за пределы пародии, и она перестанет быть самой собой…
Интерес пародии к документу обычно проявляется самым что ни на есть буквалистским, несколько даже бюрократическим способом: документ выставляют на всеобщее обозрение. Название рассказа «Робинзоны» — это и есть преданный огласке документ: заглавие другого произведения — «Робинзон Крузо».
Распространенный среди пародистов «Жест документализма» закавыченные слова пародируемого автора в качестве эпиграфа к пародии; они инструментируют текст, обыгрываются в дальнейшем под разными неожиданными углами, создают, переливаясь из абзаца в абзац или из строфы в строфу, сюжетный рисунок нового произведения…
Поэт Яков Белинский написал так:
Спит острословья кот.
Спит выдумки жираф.
Удачи спит удод.
Усталости удав.
Пародист Александр Иванов его продолжил:
Спит весь животный мир.
Спит верности осел.
Спит зависти тапир.
И ревности козел,
Спит радости гиббон.
Забвенья спит кабан.
Спит хладнокровья слон.
Сомненья пеликан.
И так далее в том же духе, пока перечислительная рифмовка популярной зоологии не переполняет все наличествующие у читателя чаши терпения. В самом деле, долго ли можно выносить такое:
Спит жадности питон.
Надежды бегемот.
Невежества тритон.
И скромности енот.
Спит щедрости хорек.
Распутства гамадрил.
Покоя спит сурок.
Злодейства крокодил.
И тут, когда возникает реальная угроза, что стихотворение обратится в инвентарную книгу Ноева ковчега, пародист закругляет свою шутку:
Спит грубости свинья…
Спокойной ночи всем!
Не сплю один лишь я…
Спасибо, милый Брем!
Перед нами случай, когда пародист попадает в плен к документу: как начал эксплуатировать прототипический прием, так и поплыл этаким беспомощным (кем? тюленем? оленем?) по течению. А ведь когда сказано все, что можно было сказать, не надо больше ничего говорить. Иначе зеркало превратится в инвентарную книгу современного Плюшкина.
Специальной критики заслуживает еще и концовка пародии. Странный конфуз (впрочем, все конфузы странны, хотя и каждый по-своему!): спят или, наоборот, не спят многие персонажи последних четверостиший во многих пародиях. Вспоминается давнее (и куда более удачное, чем у А. Иванова). Я имею в виду эпиграмму Б. Кежуна:
Спит земля и силы копит,
Чтобы были у нее.
Спит различное млекопитающееся зверье.
Спит пшеница в чистом поле.
Спят деревья у воды.
Спит звезда. И даже боле:
Спит редакция «Звезды».
Тот же А. Иванов с поэтической легкостью преодолевает инерцию документализма, одновременно сохраняя зеркальную верность атрибутике и стилистике оригинала, в пародии на Окуджаву. Создается даже иллюзия: это похоже на Окуджаву больше, чем сам Окуджава.
Жил на свете таракан,
Был одет в атлас и замшу,
Аксельбанты, эполеты, по-французски говорил,
пил шартрез, курил кальян, был любим
и тараканшу, если вы не возражаете, без памяти любил…
…Все куда-нибудь идут.
Кто направо, кто налево,
Кто-то станет завтра жертвой, а сегодня — палачом…
А пока что тараканша
гордо, словно королева,
прикасалась к таракану алебастровым плечом.
Жизнь, казалось бы, прекрасна! И безоблачна!
Но только
В этом мире все непрочно, драмы стали пустяком…
Появилась злая дама,
злую даму звали Ольга,
И возлюбленную пару придавила каблуком.
Возвышенное и земное — рука об руку; аллегорическая энтомология, всякие там букашки да мурашки, в соседстве со светским, на котурнах, обществом; разговорная интонация, осязаемые детали московского быта — и патетический монолог, философская поза… Одним словом, Окуджава, каким он предстает нам в своем песенном творчестве.