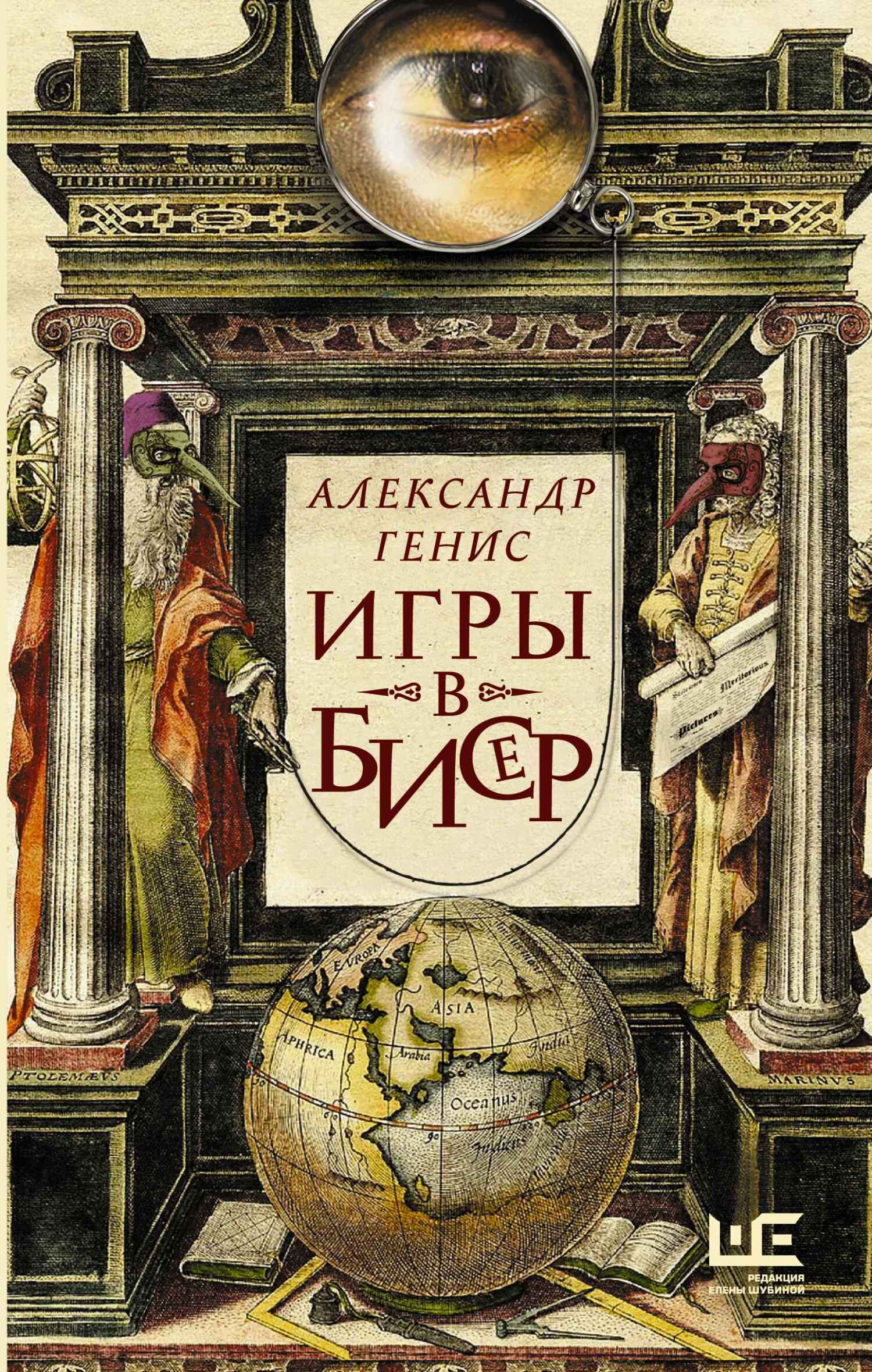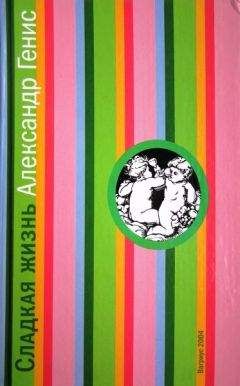ту, что печаталась в “Правде”.
Фрейдистское чтение газеты – любимая салонная игра эпохи. Опытные уста, придавая неизбежной цепочке “порыв – удар – прорыв” определенный смысл, делали передовую заманчивей “Камасутры”. Даже зарубежная хроника, как отметил в своем дневнике Веничка Ерофеев, не составляла исключения: “Никсон попросил Голду Мейр занять более гибкую позицию”. Такой безадресной эротической эмоции подошло бы универсальное английское слово sexy, пригодное для рекламы чего угодно, например мебели, хотя у нее из соблазнительного – одни ножки.
В атмосфере невидимой и всепроникающей, как воздух, сексуальности вырос специфический тип советского плейбоя. Он сам твердо не знал, с чем борется – с целомудрием или властью. Сладкий при- вкус недозволенности будил чувственность, которая казалась отвагой, а иногда и была ею. Ведь моральная неустойчивость считалась прологом к политической неблагонадежности.
– Лучше изменить жене, чем партии, – дву- смысленно ухмылялись советские плейбои, надеясь одним актом задеть обеих, ибо власть тоже была женского рода.
Обращая протест внутрь, рыцарь чужой постели компенсировал интимными победами гражданские поражения. Свобода звала его к подвигам, как Луку Мудищева, чья биография встречалась в самиздате не реже “Архипелага ГУЛАГ”.
Натюрморт
Сытые и голодные
1. классики
Писать о еде труднее, чем ее готовить. Это так же сложно, как рассказывать о сексе. О том и другом надо говорить так, чтобы вызывать вожделение, а не описывать его. С одной стороны, нас стережет опасность оставить читателя наедине с рецептом, скучным, как монография “Техника брака”, где только Довлатов нашел смешное и человечное уже в самом начале: “Введение”. С другой стороны, легко впасть в ту пошлость скабрезности, когда автор пишет при- чмокивая. Это все равно что громче всех смеяться собственным шуткам.
Классики этим не грешили. Моя любимая кулинарная, как, впрочем, и любая другая проза, принадлежит, конечно, Гоголю, но это еще не значит, что она всегда понятна. Как странные “пундики”, упомянутые в первой главе “Тараса Бульбы”, где автор, захлебываясь от слюны и восторга, приводит меню украинской старины. “Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да <…> чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная”.
Величественные до нелепости рецепты Гоголя напоминают его же сравнения, в которых, если верить Набокову, “всегда гротеск, пародия на Гомера, его метафоры близки к бреду”.
В “Ревизоре” Хлестаков, напоминая автора, несет околесицу на застольные темы: “На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз”. Согласно известному театральному анекдоту одни актеры в этом месте разводили руками, обнимая очень большой арбуз. Другие, наоборот, сближали ладони, чтобы показать, какой он маленький, хоть и дорогой. Но только Михаил Чехов продлил Гоголя и нарисовал в воздухе руками квадрат, изобразив арбуз с прямыми углами. Теперь в Японии такие (сам видел) выращивают – чтобы в ящик помещались. Но прагматика убивает гротеск, который живет тем, чего нету.
Певец “хмурых людей” – и их аппетита – Антон Чехов разоблачал бескрылый быт обывателей так убедительно, что тот обнаруживал свою обратную сторону, оборачиваясь иногда утопией. Особенно тогда, когда его герои едят. Даже в безысходно пропащем мире “Вишневого сада” упоминается не только варенье. “В прежнее время <…> вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. <…> И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая”. За репликой Фирса стоит тень полной, упорядоченной, мастеровитой жизни.
Но лучше всего чеховские рецепты работают в малой прозе, где читательский аппетит доходит до истерики, как это случается со мной каждый раз, когда я перечитываю откровенную кулинарную порнографию – рассказ “Сирена”.
“Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком…” Неудивительно, что после описанного обеда герой отправляется в созданную сытым воображением фантазию: “кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе”.
В угрюмые и в кулинарном смысле брежневские годы мы чаще всего зачитывались Гиляровским. Можно сказать, что мы им закусывали скверную водку на наших скудных пирах, и выходило не хуже, чем у автора. Будучи великим очеркистом, восходящим к “натуральной школе”, Гиляровский не видел в еде ни символа, ни метафоры, ни гиперболы – одну реальность, которая представлялась фантастической нам, а не ему. Больше всего мое незрелое воображение смущал грандиозный минимализм обеда для московских сибиряков в трактире Лопашова: “…на меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены: первое – закуска и второе – «сибирские пельмени».
Никаких блюд больше не было, а пельменей <…> было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском…”
Эта картина, напоминающая полотно Кустодиева “Московский трактир”, хотя там не едят, а пьют, и только чай, донимала меня до тех пор, пока я, не дождавшись такого обеда на его родине, не приготовил его сам в Америке. С мясом (говядиной с бараниной) проблем не было, с рыбой (рубленый лосось с травками) тоже, а вот с фруктами вышла загвоздка. Не зная, что кладут в такие пельмени сибиряки, я набрал дикой черники в Катскильских горах, начинил ею кружки́ теста и честно сварил в розовом – от Клико! – шампанском. Честно говоря, овчинка выделки не стоила. Но, как теперь говорит продвинутая молодежь, гештальт закрыт.
2. Кино
Камера любит еду, хотя изображать ее на экране не проще, чем тот же секс. Застольные сцены помогают укрепить связь между реальностью и ее кинематографической версией. Экран с его стремлением к бескомпромиссному реализму лишен условности других зрелищных искусств. Театральные обеды – всегда бутафорские, зато киношная еда – бесспорно, настоящая, подлинная, живая. И это придает кинонатюрморту особый соблазн и специфическую прелесть.
Чтобы зрители сопереживали “целлулоидному” обеду, он должен чем-то отличаться от нашего. Быть убедительным, увлекательным, экстравагантным или уликой. В детективах, кстати, сыщики, как голуби, всегда едят. Это делает их человекообразными и позволяет ненадолго вырваться из клише детектива, ибо еда не только оживляет кадр, но и придает некоторую достоверность самым безумным проделкам сюжета.
Талантливо изображенное застолье часто становится знаменитым, вроде роскошного банкета в “Крестном отце”. Другой пример – куда более скромный, но и более изящный обед в “Золотой лихорадке” Чарли Чаплина, где маленький бродяга компенсирует скудость трапезы (вареные ботинки) застольными манерами.
В советском кинематографе натюрмортами прославились потемкинские пиры в “Кубанских казаках”. Специально