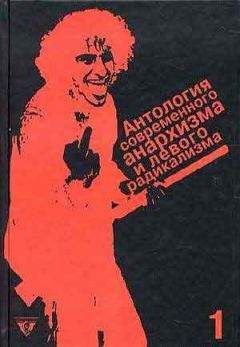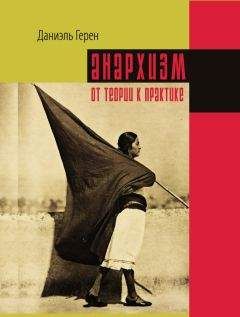Лишенный священного покрова, десакрализованный и расчлененный миф теряет свое величие и свою духовность. Он становится лишь обесцвеченной, грубой оболочкой, сохраняющей многие прежние характеристики, но теперь охотно открывающей их в конкретной, доступной и осязаемой форме. Бог больше не конферансье, и до тех пор, пока Логос, вооруженный технологией и наукой, не перехватит инициативу, фантомы отчуждения будут продолжать материализо-вываться и сеять повсюду хаос. Ищите эти фантомы: они первые признаки будущего порядка. Мы должны начать играть уже сейчас, если не хотим, чтобы будущее наше было обречено на несчастное, униженное выживание; более того, если не хотим для себя будущего, в котором выживание как таковое станет невозможно (вот старая идея о человечестве, уничтожающем себя, а вместе с собой и весь эксперимент по сооружению обыденной жизни). Жизненно важные цели борьбы за создание ежедневной жизни — вот главные чувствительные точки любой иерархической власти; выстроить одно — значит разрушить другое. Пойманные в водоворот десакрализации и повторной сакрализации, мы превыше всего ставим намерение отменить:
1) организацию внешнего как спектакля самоотречений;
2) разделение, на котором основана личная жизнь, так как именно в ней проживается и отражается на каждом уровне разделение между господами и обездоленными;
3) жертвоприношение. Три этих элемента, очевидно, взаимозависимы, как и их противоположности: участие, общение и реализация. То же самое можно сказать и о соответствующем контексте, не-всеобщности (обанкротившийся мир, подконтрольная общность).
16Человеческие отношения, до того растворенные в божественной трансцендентности (то есть общности, увенчанной священным), осели и застыли, как только священное перестало быть катализатором. Обнажилась их вещественность. Как Провидение уступило место капризным законам экономики, так и власть человеческая стала проявляться за властью божественной. Сегодня единственной роли, которая раньше в божественном освещении была отведена каждому, соответствует целый спектр ролей. И хотя масками в этих ролях стали теперь человеческие лица, роли эти все еще требуют и от ведущих актеров, и от массовки отказаться от настоящей жизни в соответствии с диалектикой настоящего и мифического жертвоприношения. Спектакль — всего лишь миф, секуляризованный и разбитый на фрагменты. Он составляет броню, в которую закована власть (и он же — жизненно необходимый посредник), а она становится уязвима для любого удара, если в какофоническом многоголосье воплей, тонущих друг в друге, не может больше скрывать своей природы личного присвоения и тех разнородных кусков несчастья, которые уготовила для каждого.
Все роли в контексте фрагментирован-ной власти, снедаемой десакрализацией, обесцвечены и обесценены, равно как и спектакль представляет собой лишь обедненную копию мифа. Исполнители ролей с такой охотой и неуклюжестью предают секреты своих механизмов и уловок, что власти, дабы защититься от всеобщего осуждения и отказа от спектакля, остается лишь организовать такой отказ самой путем еще более неуклюжего замещения актеров и исполнителей или через спровоцированные погромы заранее сфабрикованных козлов отпущения (агентов Москвы, Уолл-стрита, мирового сионизма или Двухсот Семейств). Как следствие, весь актерский состав играет бездарно, и на смену стилю приходит манерность.
Миф, эта бездвижная всеобщность, охватил всякое движение (паломничество можно считать примером авантюрного стремления к цели при отсутствии мобильности). С одной стороны, спектакль может взять всеобщность под контроль только через низведение ее до уровня фрагмента или набора фрагментов (психологических, социологических, филологических и мифологических мировоззрений); с другой стороны, он расположен в той точке, где процесс десакра-лизации предельно сходится с попытками повторного освящения, ресакрализации. Таким образом, он может преуспеть в установлении бездвижности только в границах фактического движения, движения, которое формирует его, несмотря на его противодействие. В эпоху фрагментации организация внешнего превращает движение в линейную последовательность неподвижных стоп-кадров (прекрасный пример такого перехода от засечки к цепочке — сталинский «диалектический материализм»), В структуре того, что мы назвали «колонизацией повседневной жизни», единственные возможные изменения — это изменения фрагментарных ролей. Используя сравнительно негибкую общепринятую терминологию, можно сказать, что человек попеременно бывает гражданином, родителем, сексуальным партнером, политиком, специалистом, профессионалом, производителем, потребителем. Но какой начальник не чувствует над собой начальства? Ведь ко всем из нас применима такая максима: может, и удастся иногда кого трахнуть, но уж тебя-то трахают постоянно.
По крайней мере, эпоха фрагментации не оставила никакого сомнения вот по какому поводу: повседневность есть поле битвы, на котором идет сражение между властью и общностью, где власти приходится использовать все силы, чтобы контролировать общность.
Чего мы требуем, прикрывая власть ежедневной жизни под огнем власти иерархической? Мы требуем всего. Мы занимаем свою жесткую позицию в обобщенном конфликте, распространяющемся от домашней склоки до революционной войны, и ставка в нашей игре — воля к жизни. Это означает, что мы должны выжить как антитеза выжившим. На самом базовом уровне нас волнуют лишь те моменты, когда жизнь пробивается сквозь оледенение выживания, будь эти моменты бессознательные, теоретические, исторические (например, революция) или личные.
Но нам надо отдавать себе отчет и в том, что нам не дает свободно плыть по течению таких моментов (за исключением, пожалуй, собственно момента революции) не только общее давление со стороны власти, но и требования нашей собственной борьбы и тактики. Нам надо найти способы компенсировать это накопление ошибок путем более полного охвата таких моментов, через демонстрацию их качественной важности. Тому, что мы говорим о строении повседневной жизни, не дает стать обедненным достоянием культурного и субкультурного истеблишмента (академиков с оплачиваемыми отпусками) лишь тот факт, что все идеи ситуационистов суть верные продолжения и логические расширения действий всех тех тысяч людей, которые пытаются не дать каждому своему дню выродиться в двадцать четыре часа потерянного времени. Авангардны ли мы? Если да, то быть авангардным означает двигаться в ногу с реальностью.
17Мы не заявляем исключительных прав на разум как таковой, а только на его применение. Наша позиция — стратегическая, мы находимся в центре всякого конфликта. Качественное — наша ударная сила. Люди, лишь отчасти понимающие то, что пишется в этом журнале, просят нас выпустить книгу с разъяснениями, с помощью которых они смогли бы убедиться, как силен их интеллект и насколько всеобъемлюща образованность — иными словами, понять, что они законченные идиоты. Человек, приходящий от нашей писанины в возмущение и выбрасывающий ее в урну, действует более разумно. Рано или поздно надо будет отдать себе отчет в том, что слова и фразы, которые мы используем, отстают от реальности на несколько шагов. Искажение и неуклюжесть, с какими мы расписываем свою доктрину (которую один не лишенный вкуса человек изящно окрестил «не очень-то приятным герметическим терроризмом»), происходят от нашей центральной позиции, позиции на размытом и постоянно смещающемся фронте, где язык, захваченный властью (обусловливающий), и язык свободный (поэзия) схлестнулись в своей бесконечно запутанной схватке. Тем, кто плетется за нами, мы предпочитаем тех, кто раздраженно и нетерпеливо отвергает нас из-за того, что наши слова не есть еще законченная поэзия, не есть еще свободное строительство повседневной жизни.
Все, что связано с мыслью, связано и со спектаклем. Почти каждый человек живет в постоянном страхе от мысли, что он может проснуться и очутиться в самом себе, и пламя этого страха сознательно раздувается властью. Обусловливание, особая поэзия силы и власти, подчинило себе столь большое количество вещей (ведь все материальное принадлежит ему: пресса, телевидение, стереотипы, магия, традиция, экономика, технология — все то, что мы зовем захваченным языком), что ему почти удалось растворить то, что Маркс называл недоминируемым сектором, заменив его сектором доминируемым (см. наш составной портрет «выжившего»). Но пережитый опыт не может с такой легкостью быть разложен на набор последовательно сменяющихся пустых ролей. Сопротивление внешней организации жизни, т.е. организации жизни в качестве выживания, содержит больше поэтического заряда, чем самый толстый том прозы или стихов, и тот поэт в литературном смысле слова, кто сумел, по меньшей мере, понять или почуять это. Такая поэзия находится в весьма опасном положении. Конечно, поэзию в ситуационистском смысле слова умалить невозможно, и она не может пойти на компромисс с властью, потому что любой акт компромисса — стереотип, нечто обусловленное языком силы. Но она окружена властью со всех сторон. Власть заключает в себе неумолимое путем изоляции; такая изоляция не может быть продолжительной, и одна из сторон должна уступить. Один зубец клещей — угроза распада (безумие, болезнь, лишения, суицид), другой — удаленно контролируемая терапия. Первый дарует смерть, второй — безжизненное выживание (пустые сообщения, видимость «совместности» с семьей и друзьями, психоанализ на службе у отчуждения, здравоохранение, эрготерапию). Раньше или позже СИ придется защищать свое положение терапевта: мы готовы отстаивать чистую, истинную поэзию, сотворенную всеми, в борьбе против фальшивой поэзии, махинации власти. Докторам и психоаналитикам тоже следовало бы разобраться в этом, или однажды они вместе с архитекторами и другими апостолами выживания будут вынуждены лицом к лицу встретиться с последствиями того, что однажды сделали.