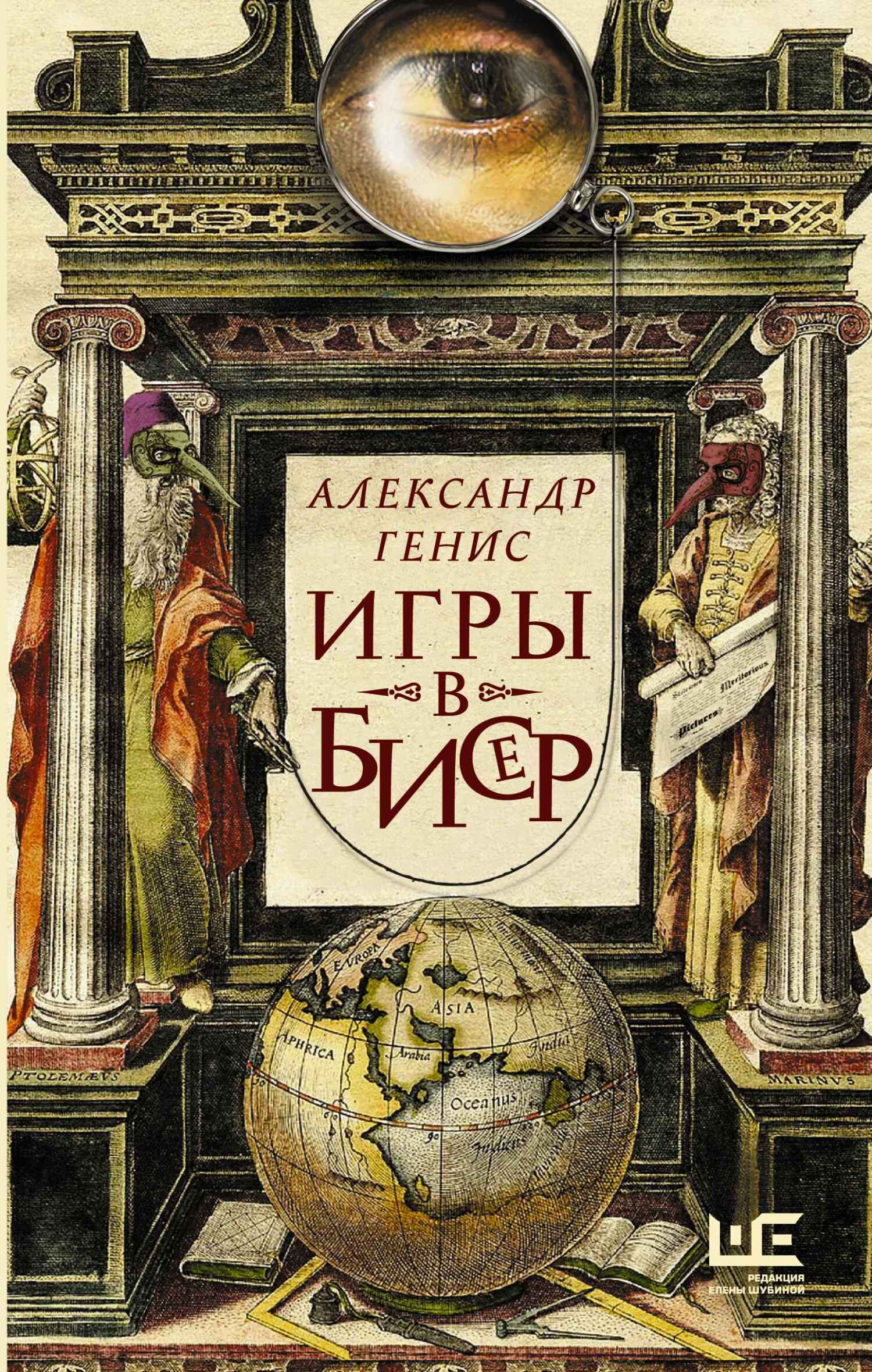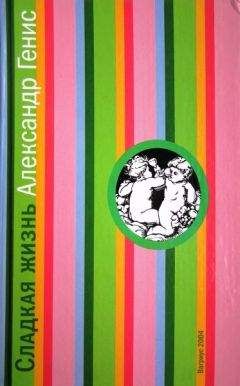как бы и не было, и нужно быть занудой вроде меня, чтобы перечитывать “Письма русского путешественника” и подражать их автору.
Зато в остальной Европе XVIII век был и остается фундаментом прозы. Однако читать эти книги – особое искусство. Дело в том, что нам вроде бы нечему там учиться. Павел Муратов в “Образах Италии” вынес этому времени безапелляционный приговор. “«Идеи» XVIII века кажутся нам слишком элементарными, они слишком вошли в обиход современной жизни. Они или очевидно верны, или очевидно ошибочны, и в том, и в другом случае о них нечего думать”.
Но старые книги тем и отличаются от устаревших, что умеют выныривать из Леты, представляя возможность читать их вновь и не так, как это делали их современники. Утратив, как и обещал Муратов, новизну и наивность, сюжет прячется вглубь книги, как мотор в автомобиле.
Роман, начиная с Античности, чаще всего рассказывает одно и то же: как составляется пара. В этом есть бесспорное величие замысла. Лишь удваиваясь, человек становится собой. Людей, как сапоги или брюки, роман считает парами.
Джейн Остин начала “Гордость и предубеждение”, самую любимую нынешними читателями старую книгу, знаменитой фразой: “Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену”.
Поэтому старый роман, словно освободившаяся от тяжести повествования пружина, заканчивается свадьбой. Брак – обретение баланса, каким бы хрупким, насильным или нелепым он ни казался. В том-то и проявляется гений Толстого, что он начал “Анну Каренину” там, где у других авторов звенели свадебные колокола.
От постоянного употребления сюжет стерся, как старинная монета, заменившая номинальную стоимость антикварной. Крупнейшего романиста ХХ века Томаса Манна этот сюжет откровенно бесил. Уговаривая дать Нобелевскую премию равному ему Роберту Музилю, он умолял критиков и читателей отцепиться от брачной фабулы.
“«Человек без свойств» – это не обычный роман с настоящей интригой и сквозным действием, когда тебе любопытно, как получит Ганс Грету и получит ли он ее. Но можно ли еще вообще читать «обычные» романы? Да ведь это уже невозможно. Понятие интересного давно находится в состоянии революции. Нет ничего скучнее, чем «интересное»”. Манн, бесспорно, преувеличивал размах читательской революции. И сегодня, как сто и двести лет назад, большинство романов пишется о Гансе и Грете. Правда, часто они сокращаются до киносценария или становятся сериалом, что не устраняет любовной линии, приводившей старые книги в движение, которое прекращалось у амвона. Но вряд ли книги прежнего времени стоит читать ради этого финала.
4. Ирония
Тот же Томас Манн говорил, что свою огромную “Волшебную гору” писал с учетом опыта классического британского романа, из которого он в первую очередь заимствовал общую для них всех ироническую интонацию. Это сказывалось, объяснял писатель свою книгу американским студентам, даже во внешней стороне дела: неторопливый стиль повествования, сдобренный английским юмором.
Вот ради этого самого “стиля” я читаю и самого Манна, и его предшественников, особенно из Англии. В каждом из таких многотомных романов царит юмор или его тень. Почти незаметная, она рассеивается привычкой. Хотя и странно, что автор вместе с рассказчиком (а это, конечно, не всегда одно и то же) слегка подтрунивает над своими героями, читателями и самим жанром – долгим, подробным, ветвистым и беспредельно многословным. Классический роман посмеивается сам над собой, советуя не принимать себя чересчур всерьез. Эта насмешка (скорее – усмешка) старой книги придает ей обаяние необязательности повествования, позволяющее ему вилять из стороны в сторону, не скупясь на слова и страницы.
В старом романе всегда просторно. И мы не торопимся, и он не спешит, зная, чем все кончится. Беседуя с читателем, такой роман с радостью отвлекается от сюжета. Отказываясь выпрямить рассказ, он размывает его границы, пока не сносит их вовсе, оставляя нам “гениальную болтовню” “Онегина”, который потому и называется романом, что вышел из этой традиции.
В старом романе все лишнее идет в дело. Устройство этого приема раскрыл гениальный Лоренс Стерн. “Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; они составляют жизнь и душу чтения. <…> …Отдайте их автору, и он выступает, как жених, – всем приветливо улыбается, хлопочет о разнообразии яств и не дает уменьшиться аппетиту”.
Шопенгауэр считал “Тристрама Шенди” лучшим романом, Шкловский – образцовым, я – любимым. Когда я прочел его впервые, мне почудилось, что эта бездонная книга окончательно отвоевала свободу для автора.
– Творческая смелость заключается в том, чтобы писать о чем угодно, – решил я еще студентом, – не боясь потерять нить или читателя и не позволяя редактору, хотя бы и внутреннему, хватать тебя за руки.
Такая манера отпускает автора на вольные хлеба ассоциативного мышления, превращая текст в “кляксы Роршаха”. Наставив их на тысячах своих страниц, я все еще чувствую вину и сглаживаю ее тем, что стараюсь писать покороче.
5. Лаконизм
“Мидлмарч” Джордж Элиот, который многие англичане считают лучшим из своих классических романов, открывается портретом героини.
“Мисс Брук обладала красотой того рода, для которой скромное платье служит особенно выгодным фоном. Кисти ее рук были так изящно вылеплены, что ей пошли бы даже те столь далекие от моды рукава, в которых пресвятая дева являлась итальянским художникам, а ее черты, сложение и осанка благодаря простоте одежды словно обретали особое благородство, и среди провинциальных щеголих она производила такое впечатление, какое производит величавая цитата из Святого писания или одного из наших старинных поэтов в современной газетной статье”.
Выделив жирным то, без чего нельзя обойтись, мы, как художник у Финнея, выявили то, что отличает нашу литературу от предыдущей: контраст лаконизма с многословием.
Последнее идет от афинской риторики, первый – от спартанского остроумия. В Античности оба вида речи уважали на равных, но только в Афинах. В Лаконии, не в силах вынести испытания красноречием, презирали ораторов.
“В Спарту пришли послы с острова Самоса – просить помощи. Они произнесли длинную и красивую речь. Спартанцы сказали: «Дослушав до конца, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца»”.
Обожая греков, я тем не менее не могу представить публику, способную выслушать речь Демосфена под открытым небом и на жаре. Тем более что риторика короткой не бывает. Она кормится изобилием и повторами. Риторика выращивает из прозы речитатив, усыпляющий бдительность и вводящий в транс. Ораторы, проповедники и политики не боятся тавтологии, находя в ней опору. Вибрируя повторами, как припевами, их речь уподобляется песни и зовет в пляс – но только устная. На письме риторика утомляет.
Зато лаконизм оказался жизнеспособным. Спарта побеждала Афины копьем и подкупала остроумием. До нас дошло множество примеров спартанского юмора, и все они построены на той