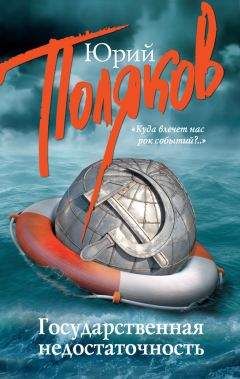– В твоем желании стать писателем что доминировало: художественные позывы или стремление «выбиться в люди»?
– Определенно «позывы». У меня была масса возможностей сделать карьеру – служебную, партийную. Если помнишь, я ушел на вольные хлеба с должности главного редактора газеты «Московский литератор», откуда были открыты пути куда угодно… Но я плюнул на это, потому что это мешало творчеству.
– Пальто «из матраца», в котором ты вернулся из армии, стало легендой между твоими приятелями.
– Только сейчас понимаешь, что мы жили в такое время, когда встречали и провожали не по одежке – по уму. Теперь вот точно – по одежке из бутика.
– В твоих словах слышна ностальгия.
– Здесь надо разделить две вещи. Во-первых, обычная ностальгия по молодости. Мартин Иден, став известным писателем, с умилением вспоминал свою работу в прачечной, которая объективно не была идеалом его жизни. С другой стороны, нынешнее повышение уровня жизни коснулось весьма незначительной части населения.
– То есть твоя ностальгия носит не столько лирический характер, сколько социальный?
– Именно. Когда я смотрю, скажем, на врачей или учителей – а я сам учитель по образованию, – у меня сердце кровью обливается.
– Новации перестройки тебе были симпатичны?
– Мы были воспитаны идеологией, которая предполагала только линейный прогресс: нашему поколению внушили, что любое изменение жизни приводит к лучшему. Поэтому никому в голову не приходило, что в результате реформ может быть хуже. При всей дури режима все-таки медленно, спотыкаясь, но шло поступательное развитие. Мы, скажем, жили с родителями в общежитии, потом получили квартиру. Когда я был пацаном, на весь наш Балакиревский переулок стояла одна личная машина – «Победа». Я до сих пор помню фамилию владельца – Фомин. Когда я приехал в этот переулок в середине 80-х, там негде было машину поставить – свою. Скажи пенсионеру где-нибудь в 85-м: в результате реформ вы лишитесь всех сбережений. Он бы рассмеялся тебе в глаза: так не бывает! Вспомни, поначалу ведь о чем спорили? Мы будем жить лучше через год или через три? Если ты говорил – через три, значит, ретроград, красно-коричневый. А вот это – демократ: он говорит, что через год.
– Лично ты, как литератор и гражданин, больше приобрел или потерял?
– Отношу себя к небольшой группе литераторов, которые примерно сохранили свой уровень жизни. Книжки как выходили, так и выходят. Но вижу: на одного моего преуспевающего знакомого приходится десять, которые серьезно пострадали.
– Ты об экономике. А что касательно свободы?
– Есть свобода и свобода. Я не был деятелем андерграунда, не был диссидентом…
– А совсем даже напротив.
– Ну да, у меня все было в порядке: я – редактор, секретарь московского писательского комсомола. Одним из моих предшественников был, между прочим, Евгений Евтушенко. Кстати, писателей комсомольского возраста было в Москве четыре человека, включая меня… Но меня никто же не заставлял писать «в стол» «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба». Из-за которых меня «приглашали» и в КГБ, и в ГлавПУР… Но потом все-таки напечатали. А сейчас? Возьмем среднестатистического прозаика. Зачем, говорит, мне писать реализм, за который не дают ни премий, ни денег, ни лекций в Филадельфии. Я буду писать постмодернизм! Внутренняя свобода писателя почти не зависит от того мира, в котором он живет. Юрий Казаков или Юрий Трифонов, они неправду писали, что ли? Сейчас тебя за честное слово никто не посадит, а врунов в литературе стало гораздо больше.
– Экономические оковы более тяжкие, чем идеологические?
– Я не знаю ни одного писателя-правдолюбца «застойных» времен, который бы побирался и голодал. А сейчас – знаю. Они голодают – даже ни с чем не борясь.
– Тут на днях одна популярная газета сообщила, что ты был замечен на праздновании годовщины ВЛКСМ. И даже как будто прочел стихи типа «не расстанусь с комсомолом»…
– В прежние времена корреспондент, скажем, «Правды», имея задание редактора и партбилет в кармане, бодро все перевирал. Сегодня газеты дают информацию о праздновании юбилея комсомола. И корреспондент, на которого не давит ни цензура, ни парторганизация, по зову сердца ставит все с ног на голову. Чего врать-то? Да, был комсомол, семьдесят лет, через него прошли практически все. Почему об этом нужно забыть? Я с удовольствием прочитал на том вечере свои давние, чуть ироничные стихи о бурно-наивной комсомольской молодости:
К полночи доплетясь до дому,
Снопом валился на диван,
Как будто я построил домну
Или собрал подъемный кран…
Иной раз нынешняя пресса навязывает все тот же убогий классовый подход. Зачем делить общество на тех, кто помнит и кто «забыл»? Лично я ничего не забыл!
– Ты сказал о наивной комсомольской молодости. Но, между нами говоря, ни тогда, ни сейчас ты наивным не был. Где здесь наивность, а где трезвый расчет?
– Мы были советскими людьми и в положительном, и в отрицательном смысле. Советская цивилизация – особый мир. Это она, между прочим, размолотила немцев и вышла в космос. Комсомол для тогдашней молодежи был единственным способом выражения своей социальной активности, за исключением диссидентства, разумеется…
– Активности в трагифарсовом преломлении.
– Фарс и ложь присутствуют в любой системе. После, например, кампании «Голосуй или проиграешь!» или, скажем, чудовищного кризиса 93-го года теряешься в ответе на вопрос: почему мы приспособленчество связываем исключительно с советским периодом? Приспособленчество вне формаций. Есть адаптация к действительности. И есть способность перешагнуть через нравственные барьеры. Это разные вещи.
– В какой степени для тебя цель оправдывает средства?
– Понимаешь, я думаю, что, как только для достижения благородной цели начинают использовать неблагородные средства, цель превращается в свою противоположность. Грубо говоря, для укрепления демократии парламент расстреливать нельзя.
– Ты допускаешь, что коммунисты вернутся к власти?
– А они никуда и не уходили. По крайней мере, та часть партийцев, которая ставила власть выше идеологии. У нас у власти что – выпускник Принстона? А те, кто ставил идеологию выше власти, сейчас в оппозиции. В этой ситуации я предпочитаю политиков, которые стоят одной ногой в прошлом, а другой в будущем – так устойчивее…
– ?
– Как, скажем, Лужков. Мы ведь существуем в многоукладном обществе – одновременно в советском и постсоветском. В таких исключительных условиях успешно может руководить человек, который понимает особенности обеих моделей.
– Довольно о политике. Поговорим о литературе.
– Эпоха открытия новых материков в литературе вроде бы закончилась. Все материки как будто бы открыты. Теперь надо присмотреться к уже открытому: какой там ландшафт, какие там зверушки бегают, есть ли там вулканы, аборигены? Эпоха «ахов» прошла. Ах, в армии есть неуставные отношения! Ах, в комсомоле девушки ходят с инструкторами в баню! Сейчас для писателя, как для глубокого географа, важен не столько момент открытия, сколько описания. Описанием я сейчас и занимаюсь. Читатель это чувствует: мои книги выходили и выходят в самые трудные времена – и раскупаются.
– А теперь о том, что читатель не видит. Ты то выпиваешь, то нет. Куришь или нет, по полгода…
– Я не раб своих привычек. Когда писал роман, исключил алкоголь. Хотя курил. Но могу и не курить.
– …Мало того, женился в двадцать лет, и, похоже, надолго. Есть в этом, Юра, что-то вызывающе антихудожественное, согласись.
– Есть два принципа жизни творческого человека. Первый: живу как живу. И параллельно свою жизнь, которая складывается так, как складывается, делаю предметом литературы. Второй: автор работает над своей жизнью как над художественным произведением. Все свои браки, романы, конфликты рассматривает как черновики к творчеству. Большей нелепицы нет, тексты начинают за себя мстить. Потому что писатель – соглядатай. Он не может одновременно творить свою жизнь и литературу. Есть гении, которым удается и то, и другое. Я к их числу не принадлежу. Предпочитаю жить жизнью нормального гражданина, который живет так, как живется. Живется с одной женой, и слава богу. Генри Миллер, скажем, интересен тем, что жил, как немногие. А я – как многие. Это тоже интересно. Многим.
– В чем для тебя главный смак жизни?
– В разные времена – разный. То хотелось достичь какого-то положения в литературе. То – определенного жизненного благоустройства. То – чтобы дочь в вуз поступила… Я всегда мечтал иметь, к примеру, домик на природе, чтобы копаться в земле… Но покоя нет. Постоянно мучает вопрос, почему нашему народу регулярно достаются правительства, которых он не заслуживает, и «реформы», от которых немец давно бы околел?