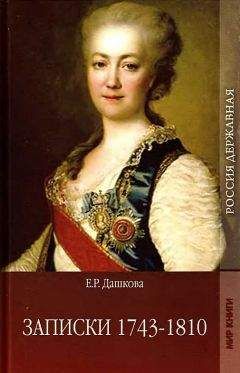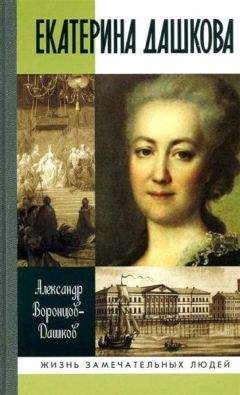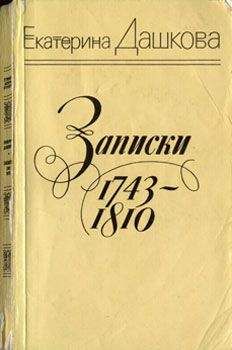Когда хоронили двух погибших подростков, занятых в “Норд-Осте”, генеральный продюсер мюзикла, известный шоумен, имел такой нелепый, жалкий вид — вид павлина, случайно увидавшего свои ноги, — что невольно вспомнилось выражение: “Не делай умного лица, тебе не идет”. (Только вдуматься в эту прямо-таки анекдотическую ситуацию: шоумен на кладбище! ) И за его крайней растерянностью и невнятными словами можно было понять то, что лишь сейчас, перед лицом смерти, неожиданно вдруг открылась и стала ясна истинная цена всяких модных зрелищ, всего того, чем столько времени самозабвенно занимались столько людей, с удовольствием приобщая к этому занятию милых, хороших детей... Такого, разумеется, он не говорил и не мог говорить, но это у него само сказалось , что, конечно, гораздо важнее.
Мудрые учат: жить как смертным, то есть жить по-настоящему, истинно по-человечески, — это значит жить всегда перед лицом смерти, делая ее мерой всех своих слов и поступков, мерой наполненности жизни, ее смысла и бессмыслицы. Не какой-то абстрактной смерти вообще, а своей собственной. Тогда мы не занимались бы, по меньшей мере, многими пустыми делами и не говорили бы многих праздных слов. И мы могли бы увидеть вообще-то очевидное: когда мы развлекаемся, стараемся забыться с помощью того или иного чтива или зрелища, мы не живем, ибо в это время засыпает, атрофируется и отмирает в нас то, что делает нас людьми. А после этого всерьез задуматься: а когда же мы действительно живем ? Когда конкретно? И что это вообще значит — жить ?
Смерть есть то, что проясняет все в жизни, придает ей облик, смысл и ценность. Кладя предел нашему земному существованию, смерть интимно, по-братски связывает нас со всеми, кто жил до нас и кто будет жить после нас... Стало быть, спрашивать себя мы должны не так, как обычно это делаем: мол, зачем это еще я буду думать о смерти и тем портить себе жизнь, а наоборот: “что я не буду думать о смерти и этим портить себе жизнь?” (А. В. Михайлов). А для этого необходимо понять ее, смерть, не как разложение и ужас, но как цену, которую всем нам приходится платить за дарованную жизнь.
Чем значительнее личность, чем больше человек сделал, тем меньше должно быть страха и отчаяния: ведь больше остается того, что не умирает. Выходит, чем больше человек жил, тем меньше его касается смерть — как при жизни, так и по смерти. И наоборот.
* * *
Все, что принадлежит только к настоящему, умирает вместе с ним.
М. М. Бахтин
Все познаётся в сравнении. Поэтому для лучшего понимания того, что собой представляет нынешний театр, сравним его, очень кратко и лишь в самом существенном, с тем классическим театром, каким его создали крупнейшие драматурги Европы — от Шекспира до Чехова.
У Шекспира сказано, что назначение театра во все времена было и будет “показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости, и каждому веку истории — его неприкрашенный облик” (“Гамлет”). Совершенно очевидно, что цель сегодняшнего театра прямо противоположная — не правда о человеке, а оправдание современного человека в его собственных глазах, чтобы пробавляющиеся буфетом и театром мещане стали не просто осознавать себя как мещан, но еще и гордиться этим. Оправдание того самого буржуа, кого Блок называл “вызовом человеческому лику”...
Понятно, что за этими противоположными целями стоит в корне различное представление о человеке , о том, каким должен быть человек. Так ведь почти и не скрывается, что принципиальное новаторство нынешнего театра с раздеванием состоит в том, что он исходит из обостренного чувства собственной подлости, из “оподленного” образа человека вообще.
Стало быть, отнюдь не случайно, что о некогда серьезных столичных театрах рассказывают самые невероятные вещи. Так, в театре-студии у Никитских ворот в мюзикле по Карамзину “бедная Лиза” с отчаяния так танцует, что публика может полюбоваться ее нижним бельем и всем остальным. На Таганке известный борец с “тоталитаризмом” на старости лет открыл такие неведомые доселе глубины в “Онегине”, что у него все дружно заплясали по-американски, даже сам поэт... В театре Ермоловой обстоятельно показывают, на потеху зрителям, как Пушкин насилует крестьянку. В Школе современной пьесы не поленились представить Толстого каким-то жалким, выжившим из ума юродивым, с ехидной улыбкой сующим под нос гостящему у него иностранцу свой ночной горшок... (И таких обличающих себя же спектаклей, из которых ничего нельзя узнать о великих, зато всё — о постановщиках, сейчас множество.) В театре Ленинского коммунистического союза молодежи в “Игроке” Мрак Хазаров догадался показать сребролюбие не как ветхий порок, а как “некую космическую силу”. Дескать, дело вовсе не в охватившей нас иудейской страсти, а это вселенский закон такой, так что никто ни в чем не виноват. Или он и вправду не знает того, что дорогой его сердцу либеральный идеал сам Достоевский называл “идеалом богатства и богатых свиней”? Последний и бесспорный его вклад в развитие русской сцены, а заодно и устаревшего языка Толстого и Чехова, состоит в обильном использовании на протяжении всего спектакля грязной матерщины. Как ни странно, но успех этой мерзости (невольно демонстрирующей чудные узоры души этого театрального террориста*) такой, что далеко не все желающие из числа “столичной интеллигенции” могут достать билет.
Мы видим, что постмодернизм если что и доказывает, так это то, что самым близким к обезьяне животным по-прежнему остается человек. И что всякое принципиально “безоценочное” восприятие, усугубляя идиосинкразию, скоро превращает любую голову в помойку, тоже, как известно, безоценочную .
Словом, лишний раз подтверждается старая истина: чтобы понимать и чтить по достоинству великих художников прошлого, надо и самому что-то из себя представлять. Иначе нам всегда будет казаться: что ни пошлость, то и театр, что ни скудоумие, то и искусство, как козлу — везде огород. И своей нетребовательностью, несерьезностью своих жизненных вопросов мы будем только увеличивать и без того стремительно растущее поголовье толпы тех зевак, о ком давно сказано:
Глупцы довольствуются тем,
Что видят смысл во всяком слове.
Красноречиво, что огромное большинство наших известных театральных деятелей, своим личным примером доказывающих эфемерность всякого благородства и бескорыстия, — самые неистовые критики советского жизнеустройства, где никому и в голову не могло прийти отправить почтенную старушку Мельпомену в дом терпимости. Кстати сказать, в стремлении свысока оценивать прошедшие тысячелетия культуры мерой последнего дня Пушкин резонно видел признак слабоумия.
Поражает вот что: в то самое время, когда для огромного большинства людей жизнь стала тяжелее, драматичнее, безысходнее, театр наш стал откровенно бессодержательнее, похабнее и равнодушнее к людям... Благодаря “реформам” невозможно не видеть, на какие подлости и предательства способен современный человек... Впрочем, в истории такое было не раз: наблюдая торжество человеческой низости, одни страдают, другие воодушевляются.
В 1873 году, то есть в период зарождения капитализма в России, Владимир Соловьев в письме своей кузине писал, что нравственно “народ упал почти до скота, но пока он сохраняет великое понятие о “грехе”, пока он знает, что человек не должен быть скотом, до тех пор остается возможность подняться; но когда его убедят, что он по природе своей есть скот и, следовательно, живя скотски, поступает лишь соответственно своей природе, тогда исчезнет всякая возможность возрождения”.Над этими словами стоит призадуматься, поскольку сегодня они звучат для нас как никогда актуально.
Гете как-то заметил, что у Шекспира одушевленное слово преобладает над действием . Но теперь-то какое еще “одушевленное слово” посреди бесконечных танцев и опереточного легкомыслия?
В основе трагедий Шекспира — конфликт героя с миром, в основе же нынешнего театра с раздеванием — сознательное отрицание всякого героизма и достоинства. Современная драматургия потому и не допускает никакого героя, кроме дельца и алкоголика, что в сравнении с ним наше респектабельное “пестрое стадо зрителей” (Толстой) рискует увидеть себя именно как стадо, тогда как ему непременно хочется уважения. Между тем в русской культурной традиции доподлинно известно: искусство несет в себе тоску по идеалу, по тому, что выше, мудрее и прекраснее нас самих .
Шекспировский Гамлет сделал открытие: на пороге становления буржуазного общества бесчестие охватило мир. Действительность такова, что одно только приобщение к ней есть потрясение. Шекспир в своем театре показал, что всякая человеческая жизнь в своей глубочайшей основе трагична , так что всякое правдивое отражение жизни неизбежно должно быть отражением ее внутренней трагичности. Благодаря ему мы понимаем, что трагедия есть высшая форма бытия : чем трагичнее жизнь человека, тем она человечнее, тем больше сам он человек . Сегодня же благодаря театру развлечений многие с удовлетворением открыли, что богатенькую свинью-копилку (вспомним Достоевского) уже можно считать человеческим совершенством.