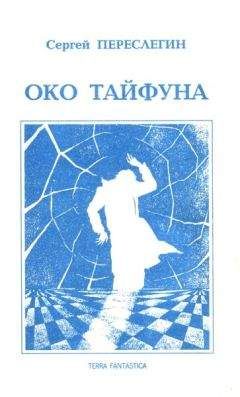Решающее подтверждение я нахожу в разговоре Петера с мертвецами. «Кто-нибудь знает хоть, с чего началась эта война? Кто на кого напал и почему?»(1)
Убитые второй мировой знали. Глейвицкая провокация никого не ввела в заблуждение, да и не была на это рассчитана. Даже геббельсовская пропаганда не слишком старалась отрицать приоритет Германии.
Напротив, запутанная история Сараевского кризиса была забыта к концу первого военного лета.
Никто не хотел войны, но она надвигалась с неотвратимостью страшного сна. Начало века сотрясали конфликты: делили провинции, пересчитывали страны, готовились…
Странный мир одна тысяча девятьсот четырнадцатого года, мир, переполненный надеждами; в его богатстве и блеске, в новой науке, в триумфах техники и технологии, в непрерывном его восхождении кто усмотрел бы обреченность следующих лет? Быть может, Энгельс.
«…Для Пруссии — Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной, — писал он и дальше развивал апокалиптическую картину, разумеется, не принятую всерьез в просвещенной Европе: — От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не объедали тучи саранчи. (…) Крах старых государств и их рутинной государственной мудрости, крах такой, что короны дюжинами валяются по мостовым и не находится никого, чтобы поднимать эти короны; абсолютная невозможность предусмотреть, как все это кончится и кто выйдет победителем…»(2)
А пока Европа жила если не мирной, то, по крайней мере, упорядоченной жизнью, и казалось, это будет продолжаться вечно: волнения в Ирландии, парламентские скандалы, достойно завершавшие миллионные аферы, медленный распад стареющей Оттоманской империи, сопровождаемый странно кровопролитными войнами — то с турками, то с собственными союзниками, спуск на войну новых и новых дредноутов… обычно пишут «лихорадочный», но, помилуйте, какая может быть лихорадка в деле военно-морского строительства? были бы деньги, — а деньги были… перманентная забастовочная борьба, плавно перетекающая в борьбу за место в палате депутатов, а то и за министерское кресло — даже не знаю, предательство ли это или аналог «нового мышления» в те спокойные годы; Атлантику пересекали корабли, подобных которым больше никогда не построили(3), уже пользовались радиосвязью — фантастическая идея Жюля Верна стала реальностью, как и древняя мечта о полете в небо, — обеспеченный мир, не знавший границ, кроме колониальных. И страха.
28 июля 1914 года Гаврила Принцип убивает Франца-Фердинанда. Проходит месяц; наконец 23 июля барон Гизль, австрийский посланник, вручает первый по счету ультиматум. Был еще мир, и он еще казался устойчивым. В самом деле, на фоне предыдущих кризисов этот смотрелся как-то несерьезно.
Сербы приняли ультиматум, за исключением одного второстепенного пункта. Через двадцать минут австрийское посольство покинуло Белград. Началась мобилизация. Частичная. Направленная против Сербии.
В ответ частичную мобилизацию объявил Николай Второй.
Стратегическая небывальщина, которую я могу объяснить лишь сумбурными попытками государств и их лидеров вырваться из неожиданно разверзшейся воронки. Они-де не хотели! Конраду нужно было умиротворение Австрии через наказание Сербии, Вильгельма заботил престиж Германии, Николай (или, вернее, Сазонов) стремился вернуть авторитет России, Асквит думал о смещении равновесия на застывших морских переговорах, французы, как обычно, боролись с перманентным парламентским кризисом — зачем же воевать?
30 июля Генштаб убедил царя начать всеобщую мобилизацию. Геометрия оказалась сильнее, и пути назад не было. 31 июля. 12.00. Германский ультиматум России. Еще через сутки Пурталес вручит Сазонову сразу два варианта ноты. В обоих объявлялась война.
Однако на западе, куда спешно перевозилось 7/8 немецкой армии, еще был мир. Германская дипломатия подумала и потребовала у Франции Туль и Верден — на всякий случай и в залог нейтралитета.
Здесь Вильгельм Второй предпринял отчаянную попытку сломать предопределенность. Он потребовал повернуть армию против России. Потом выяснилось, что этот сумасшедший маневр был выполним. Тогда же военный министр, услышав распоряжение, заплакал.
Кайзер удалился. Германские войска получили приказ вступить на территорию нейтральной Бельгии.
Нейтралитет Бельгии был навечно гарантирован великими державами, в том числе и Германией. Необходимо было найти повод для вторжения, хотя бы формальный. Повод, разумеется, нашелся.
Второго августа в 19 часов правительству королевства вручили ультиматум, в котором указывалось, что, поскольку французы, несомненно, скоро нападут на Бельгию, Германия решила защитить ее нейтралитет, для чего немецкие войска вступят на бельгийскую территорию. Если же Бельгия окажет сопротивление, говорилось далее в ноте, на нее будут смотреть как на врага.
Бельгия обратилась за помощью к Англии.
Англия не спешила.
Франция тоже.
Всюду шла мобилизация. Впервые в истории стягивались к границам миллионные армии. Белград уже обстреливали, Ренненкампф пересек границу Восточной Пруссии, немецкие солдаты шагали по Бельгии.
Был август, по воспоминаниям — жаркий и грозовой. Крестьяне убирали хлеб. Намечался хороший урожай.
У Германии уже не хватало времени, сроки развертывания срывались, и убедительного повода для войны с Францией придумать не успели. В ноте указывалось лишь, что французский самолет пересекал германскую территорию и пытался сбросить бомбу на железнодорожную линию.
Англия подождала еще сутки.
Через месяц, когда станет ясно, что война вышла из-под контроля, что уже потрачена большая часть армий мирного времени и конца этому безумию не видно, придет пора оправданий.
Пока оправданий.
Тогда во всех без исключения воюющих странах будут выпущены сборники документов. Выпущены с опечатками, на плохой бумаге, но массовым тиражом. По иронии судьбы оказались эти книги почти одинаковыми, и так же одинаково они назывались: белая книга, желтая книга, синяя книга, красная книга.
Они были построены на лжи нового типа, так как включали только подлинные документы.
Только подлинные!
«Объективность — долг нашей совести!» — напишет Армант и улыбнется.
Это впереди. Тогда до сценария не додумались. Просто сократили часть текстов и объяснили это типографскими трудностями, неизбежными в военное время. В результате был создан Образ Врага, Развязавшего Войну.
Народ поверил.
Насколько я могу судить, народ всегда верит этому.
Что влечет за собой чрезвычайно важные последствия. Которые в 1914 году не были и не могли быть осознаны. Шла война, к ней относились серьезно. Как это ни странно, пока она шла, жил мир. Жил надеждой. Не на лучшее будущее — скорее, на возвращение прошлого. Да еще на то, что «человечество извлечет из всего этого хороший урок»(4).
«Будущему или прошлому — времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда и есть правда и быль не превращается в небыль.
От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия — привет!»(5)
Джордж Оруэлл… Помню свое первое прочтение романа, точнее прослушивание (сокращенный текст тихой неразборчивой скороговоркой скрипел из динамиков, владелец пленки давал пояснения, временами переходя на пересказ; я чувствовал себя Уинстоном Смитом, читающим книгу Голдстейна), потом была ночь и было страшно. Впервые я увидел мир более чудовищный, чем самая реальность, и генетически связанный с ней.
«Мост Ватерлоо» лежит в русле оруэлловской традиции, хотя по применяемым художественным приемам Лазарчук и Оруэлл скорее антиподы. Красноярский писатель не ставил задачу лишить вас сна, показав процесс производства нелюдей, бредущих в небыли, мир, где свободным нельзя ни жить, ни умереть, и даже само слово «свобода» существует лишь в значении «туалет свободен», а любой бунт — он не столько подавляется, сколько провоцируется полицией мысли. «Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно»(5). Тенденции доведены до крайности, и, освободившись от власти романа, вы можете оглянуться вокруг и успокоенно сказать: не свершилось. Ведь рядом с Оруэллом наш застой покажется раем.
Лазарчук говорит: нет, свершилось. И не так все страшно, вы же ничего не заметили. Оруэлловский мир не обречен на коллапс, в нем есть тенденции к саморазвитию. А это означает, что он более реален, нежели предполагал сам Оруэлл.