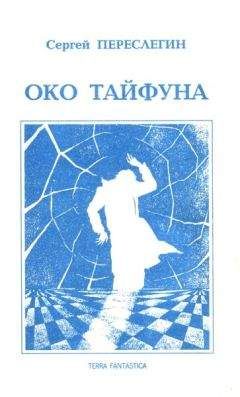Он предостерегал. Лазарчук разъясняет. Между ними сорок лет реального времени, в течение которого предсказанное происходило.
«1984» создавался в 1948 году. Мировые войны закончились, в разоренной, но освобожденной Европе царила эйфория победы. Оруэлл же не видел никакой победы в том, что один тоталитаризм победил другой при помощи третьего (маккартизм он должен был рассматривать как очередную форму тоталитаризма, а проявившаяся в годы войны зависимость Британской империи от США наводила на грустные размышления).
Для Оруэлла война между свободой и эпохой Старшего Брата закончилась в Испании. Там родилась модель.
Ее основные черты необходимо запомнить.
Мир поделен между тремя великими державами. Одинаковыми.
Державы находятся в состоянии непреходящей войны, не затрагивающей, однако, метрополий; война это мир — она ведется только ради того, чтобы вестись.
Государственное устройство основано на тотальной идеологии, сомнение в которой не то чтобы карается, но считается невозможным; «мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление есть смерть»(5).
Общественные отношения строго пирамидальны.
Структура социума опирается на жесточайшее информационное насилие. Граждане Океании живут в сконструированном мире, прошлое (и вместе с тем настоящее) которого непрерывно меняется.
Из всех признаков, определяющих оруэлловский тоталитаризм, лишь последний является необходимым. Вероятнее всего, он является и достаточным.
Оруэлл первый оценил важные последствия Великой войны и военной пропаганды. Он показал, что прошлое, содержащееся в контролируемых документах, может оказаться не единственным. В 1948 году он сформулировал задачу, не нашедшую общего решения до сего дня, задачу на установление исторической правды в мире, где сделано все, чтобы правда вообще не существовала.
Оруэлл — в отличие от Лазарчука — полагал эту задачу принципиально неразрешимой.
1914 год.
Август и сентябрь заполнены отчаянной, кровопролитной, но осмысленной борьбой. Исход сражений еще решали люди, и ордена имели цену.
С осени начинается переход к другой войне. Его объясняют изменением качественного состава армий: пришел новый боец, принесший с собой настроение народной массы, отрицательно относящейся к войне(6).
Пора усвоить, что отрицательное отношение народа к войне — как правило, позднейшая выдумка историков. Афганистан это доказывает. Затаенное недовольство трудящихся в военное время действительно усиливается, но остается ненаправленным. Во всяком случае, сознательно антивоенные (пацифистские) тенденции проявляются крайне редко. Это связано с устойчивыми милитаристскими традициями, когда отказ участвовать в войне воспринимается как трусость и предательство. Кроме того, низы, угнетенные, ждут от войны повышения социальной мобильности, надеются, что она откроет пути к выдвижению, надежно блокированные в мирное время.
Нельзя также забывать о военной романтике, и сегодня не утратившей своей притягательной силы, — не потому ли так убедительно звучит известное «афганец»?
А теперь соедините все перечисленное с усилиями пропаганды, с естественным патриотическим порывом, с благоприятной экономической конъюнктурой, и вы поймете, что патриотические демонстрации августа 1914 года, прославлявшие войну, были волеизъявлением большинства.
Которое к концу года придет в окопы и сделает истиной в последней инстанции известную благоглупость Фоша: «Выигранная битва — это та битва, в которой вы не признаете себя побежденным». Четыре поколения Победителей, сто лет накопления в социуме гордости, самоуважения, умения добиваться своего… все это должно было сгореть, прежде чем одна из сторон сможет уступить. Не антивоенные настроения принесла масса, а стойкость и закон больших чисел.
К зиме появилась линия равновесия. «Через все поле сражения… усеянное трупами людей и лошадей, проходил отчетливо обозначенный рубеж, который не смогла… перешагнуть ни та, ни другая сторона»(7). С этого момента война перестала быть столкновением людей.
Теперь воевали числа. В первую голову — это не калибры снарядов и номера дивизий, даже не показатели производства военного снаряжения (пока удручающе низкие), а километры железных дорог. Линия фронта обладала тем свойством, что для переброски резервов вдоль нее противникам требовалось одинаковое время.
Геометрический характер войны породил невероятное ее напряжение при внешней статичности. Ничего сделать было нельзя. Но бездействие противоречит природе человека, тем более — человека военного, тем более — командира, облеченного властью и жизнью не рискующего.
«…И он с угрюмым постоянством
В непроходимое пространство
Как маятник, толкает нас…»(8)
…Сражения нумеровались — пятая битва во Фландрии, одиннадцатое наступление на Изонцо — не то что сдвига равновесия, захвата линии траншей не удавалось добиться, а если какие-то успехи и возникали, чаще случайно, их сводила на нет глупость и неразбериха, и контрудары противника, опирающегося на законы геометрии.
«Три дня морская пехота и кавалергарды выбивали из окопов маленький гарнизон: низкая облачность и дожди не давали действовать авиации. На четвертый день прояснилось, и над островами повисла целая авиадивизия. Вечером, когда там сгорело все, что могло сгореть, кавалергарды пошли вперед. По ним не было сделано ни единого выстрела, бомбардировщики смешали с землей всех. Потом… архипелаг опять сдали. Сдали, опять взяли. Перепихалочки, потягушки — и вся война»(1).
На обратной стороне медали переправа через Юс, напоминающая вполне реальное наступление под Пашанделем, где за четыре месяца легло в болото триста тысяч человек:
«Рассказать тебе, как там переправлялись? Нагнали штрафников, поставили сзади пулеметы… сзади пулеметы, впереди пушки — куда, думаешь, они пошли? Лежали — как волна прибойная замерла… высокая такая волна… пулеметчики с ума сходили, а стреляли — приказ… А потом в воду — куда иначе деваться? Кипела вода… я раньше думал, когда говорят: река покраснела от крови — это метафора. Вот тебе — метафора»(1).
Выжженная граничная черта перестала быть частью Земли. Очевидцы рассказывали, поле боя было абсолютно безжизненным; испещренное кратерами, забросанное кусками горелого железа, оно напоминало инопланетный пейзаж… Сомма… прямоугольное поле километр на пять, на котором шестьсот тысяч разлагающихся трупов, весной и осенью оно превращается в сплошную липкую грязь. Уэллсовский боевой треножник не просуществовал бы здесь и двух минут. Его спокойно расстреляли бы тяжелой артиллерией с удаленных на десяток километров закрытых позиций, неуязвимых для бессильного теплового луча, уничтожили бы играючи, просто так, на всякий случай, как на всякий случай сбили летающую тарелку над мостом Ватерлоо.
Мы забыли эту войну, но она не забыла. В неопределенном Пространстве все еще существует та линия фронта, и каждого из нас ждет своя повестка о мобилизации(9).
2.2. Пространство решений — жизненное пространство
Дело не только в убитых, хотя их смерть отравила коллективное подсознание. Дело еще и в наглядном уроке невозможности. Военная геометрия поставила предел, и его не смогли преодолеть. Я говорю не о линии фронта, не о пределе в обычном, физическом значении слова. Стена прошла через все структурные этажи, Невозможно распоряжаться собой. Невозможно остаться собой. Невозможно найти выход. Так мы и усвоили это «невозможно», послевоенное поколение, «так мы и рождаемся [теперь] — руки по швам, — и горды тем, что намерены и тверды в этом своем намерении: умереть руки по швам (…) руки по швам! — мы идем по жизни, распевая маршевые песни, с которыми легче идти и которые забивают в голове все прочие мысли, идем, стараясь держать равнение в шеренгах и видеть грудь четвертого, и любое отклонение от равновесия воспринимаем как нарушение и едва ли не крушение строя — во всяком случае, покушение на оное; воспринимаем сами, никто не велит нам это так воспринимать, просто это впитано с молоком матери — видеть грудь четвертого человека и держать руки по швам»(1).
Механика произошедшего проста. Человек вообще животное стадное, а в окопах Великой Войны индивидуум был обречен: сознание могло выдержать эти месяцы и годы, лишь опираясь на массу, и личное вытеснялось коллективным. Тем более, что иерархическая структура армии подразумевает подавление личности, и в наши дни батальон составляет триста солдат и офицеров, но отнюдь не триста человек.
Дисциплина и самоорганизация (не говоря уже об уме, героизме и прочем) в конечном итоге оказались бесполезными — война не была выиграна. Отсюда коллективная истерия следующей эпохи.