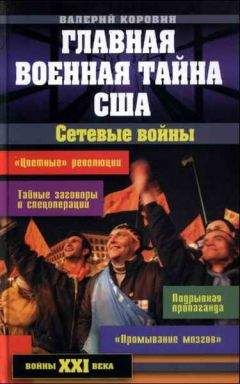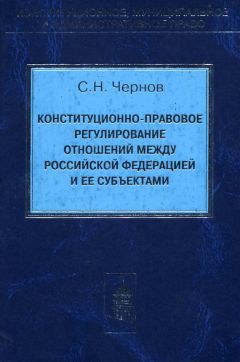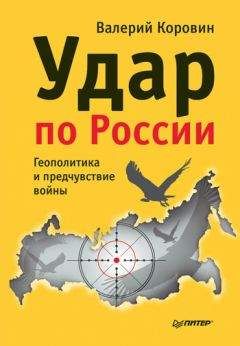Последующие несколько лет ушли на то, чтобы, прежде всего, самим себе доказать, что суверенитет — это ценность, что он нам нужен, и отказаться от него мы не можем. Размышления эти происходили под громкий «вой» с Запада, который тоже заметил, что Россия перестала ему подчиняться и сделала заявку на суверенность.
Аргумент был только один — раз не подчиняетесь главной и величайшей демократии мира, значит, вы против демократии вообще. Противопоставление было столь же очевидным, сколь и надуманным: либо демократия, тогда слушайтесь нас, либо суверенитет. Или — или. Казалось бы, выбор в пользу суверенитета должен был означать отказ от демократии, но она далась нам слишком дорогой ценой — распадом империи, всеобщим обнищанием, демографическим провалом, чтобы так легко от нее отказаться. Отказаться нельзя сохранить! Где запятая? И вот тут возникла следующая мысль, прямо по Достоевскому: «оба лучше».
Путин сказал — демократии бывают разные. Это был первый шаг, после которого в обществе и элитах начался мыслительный процесс: сначала вопрос о самосохранении, ответом на который стал суверенитет. Дальше декларация о реальном суверенитете поставила вопрос о демократии. Стали думать о демократии и поняли, что демократия бывает разной. Так, методом сложения — суверенитета, который нам необходим для выживания, и демократии, за которую заплачена высокая цена, а значит, жалко, к тому же у нас может быть своя, а не американская, — общество и власть получили суверенную демократию. Теорема доказана.
По большому счету, для масс, как выясняется, самое главное — это личное благосостояние и стабильность. А все это возможно обеспечить лишь путем сохранения суверенитета, ибо его потеря отбросит страну обратно в кошмар ельцинизма, откуда мы только-только с таким трудом выкарабкались. Поэтому суверенная демократия — это, конечно, хорошо, ее можно показывать Западу, чтобы не «орали». Но лучше бы как-то вообще без демократии. Ведь любая демократия в России — это, прежде всего, вседозволенность. А кому у нас все дозволено? Правильно, чиновникам, ворам и хапугам от власти. Долгое время «суверенная демократия» оставалась пустым идеологическим конструктом и была лишь поводом для атаки на сложившуюся путинскую модель, подхваченную Медведевым, в которой теоретически личные свободы и власть народа были подкреплены свободой национальной, то есть суверенитетом. 8 августа Америка устроила нам тест, решив проверить, насколько этот «конструкт» жизнеспособен. Дмитрий Медведев его с блеском прошел. Теперь Медведев — наш Президент, Россия действительно суверенна, и мы действительно демократия. В этом больше не осталось сомнений. Даже у США.
Путин имел полную легитимность остаться
Оценивая знаменитое выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции, наделавшее столько шуму на Западе, нужно отметить, что даже несмотря на столь авангардное содержание мюнхенской речи, Путин опоздал с ней минимум на семь лет. В своем выступлении Путин ссылается на слова генерального секретаря НАТО, который еще в начале 90-х гг. гарантировал России, что блок не будет расширять свои границы дальше Западной Германии. И в этой связи непонятно, почему Путину понадобилось семь лет, чтобы заметить противоречие с этими заявлениями. Даже после распада Югославии, еще при Ельцине, было очевидно, что НАТО не собирается останавливаться. Но Россия не уставала повторять, что не видит ничего страшного во вступлении в НАТО суверенных стран бывшего соцлагеря из Восточной Европы. А вот после того, как Грузия объявила о скором вступлении в НАТО, после того как американский радар собрались устанавливать в Чехии, Польше, а потом и на Украине, российским властям, видимо, стало действительно страшно. Многие вещи можно было предотвратить одной лишь декларацией о том, что Россия имеет свои политические и геостратегические интересы не только в странах постсоветского пространства, но и в странах Восточной Европы, ранее принадлежавших к нашему военному лагерю. Но мы этого даже формально не заявляли. Поэтому крайне поздно опомнился Путин, многие процессы приняли тяжелую форму. Геополитическая болезнь России слишком сильно запущена, и сейчас требуется уже хирургическое вмешательство. Если бы Путин хотя бы декларировал какие-то вещи в начале своего правления в 2000 г., многих осложнений можно было бы избежать.
После произнесения мюнхенской речи недоумение вызывало одно — почему, заявив о начале хирургического вмешательства в запущенный процесс восстановления российского геополитического влияния на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, Путин неожиданно, уже взявшись за скальпель, вдруг бросил все, предоставив проведение операции другому. То есть сначала он привязал себя к месту лидера России, сделав далекоидущие геополитические заявления, но уже в десятикратно более жестом формате, чем это было последние семь лет, а затем отказался от власти. Казалось бы, никакой последовательности. Бросить все начинания и уйти?
Все свои 8 лет Путин отпирался от третьего срока, но, собравшись уходить, поставил страну в жесткие рамки — даже не оставшись на президентском посту, в тех обстоятельствах, в которых он оказался после мюнхенской речи, он просто вынужден был остаться «удел». В любом виде. После Мюнхена на Путина с надеждой смотрели не только российские, внутренние элиты, но и элиты тех государств, которые не согласны с однополярным миром.
Путин не зря сказал о том, что лидеры некоторых западных стран просили его остаться, учитывая переходный период и специфику сложившейся ситуации. И неспроста на конференции в МГИМО, посвященной американскому президенту Рузвельту, Владислав Сурков напомнил, что Рузвельт правил четыре срока, что это обычная западная практика продления полномочий. Де Голль также увеличивал свой срок пребывания у власти. А это все демократические страны — США и Франция. Путин имел полную легитимность от народа, от элит остаться у власти. Но он остался верен своему слову. Однако машина геополитического реванша уже была им разогнана в полную силу, и, когда за рулем у нее оказался другой, уже поздно было тормозить. Россия осуществила то, что озвучил Путин в Мюнхене, и что должна была осуществить, — вернулась в историю. Хотя формально это сделал уже не Путин.
Возможна ли в России демократическая модель диктатуры
Понятие «суверенная демократия» в России возникло в тот момент, когда наше общество вплотную подошло к необходимости решения вопроса преемственности сложившегося курса, который был обозначен и проявлен в период управления страной Владимиром Путиным. От содержательного наполнения этой формулы зависит будущее страны. Она же была призвана решить главную для власти проблему — проблему сохранения преемственности. Существует крайне высокий уровень легитимности, выраженный в поддержке населением того курса, который реализует нынешняя национальная администрация.
Но здесь мы упираемся в проблему легальности — как законодательно сохранить и продлить нынешний политический курс, общие контуры которого сложились из необходимости восстановления полноценного суверенитета и сохранения завоеванной ценой разрушения СССР демократии, без которой сегодня никто уже не мыслит своего существования.
Дабы сразу отмести обвинения в нецивилизованных методах, свойственных российскому «дремучему» политическому сознанию, обратимся за разрешением сложившейся тупиковой комбинации к трудам известного германского юриста Карла Шмитга, который, разбирая вопрос популярности того или иного политического деятеля в народе и проблемы его правовой легализации, юридически описывает такой исторически существовавший европейский правовой институт власти, как диктатура. В своих трудах Шмитт утверждает, ссылаясь на традиционные европейские юридические формы: «Диктатура есть мудрое изобретение Римской республики. Диктатор — должность, введенная, чтобы в дни опасности имелась сильная верховная власть». Именно о сильной верховной власти грезит сегодня наш многонациональный народ — носитель суверенитета, согласно Конституции, то есть — суверен. И именно сильная власть является гарантом консенсуса нынешних элит. В Римской республике диктатор избирался в «условиях жесточайшей нужды», каковой для нас сегодня и является сохранение преемства.
Но здесь мы натыкаемся на такое препятствие, как неприятие самого термина «диктатура» на уровне общественного сознания. Здесь любой, кто бы ни начал всерьез говорить о введении данного европейского правового института власти, неизбежно столкнется с массой упреков — прежде всего в том, что это понятие противоречит нормам демократии. Ведь если с суверенитетом при установлении диктатуры все понятно, для сохранения суверенитета она и вводится, то где же здесь демократия?