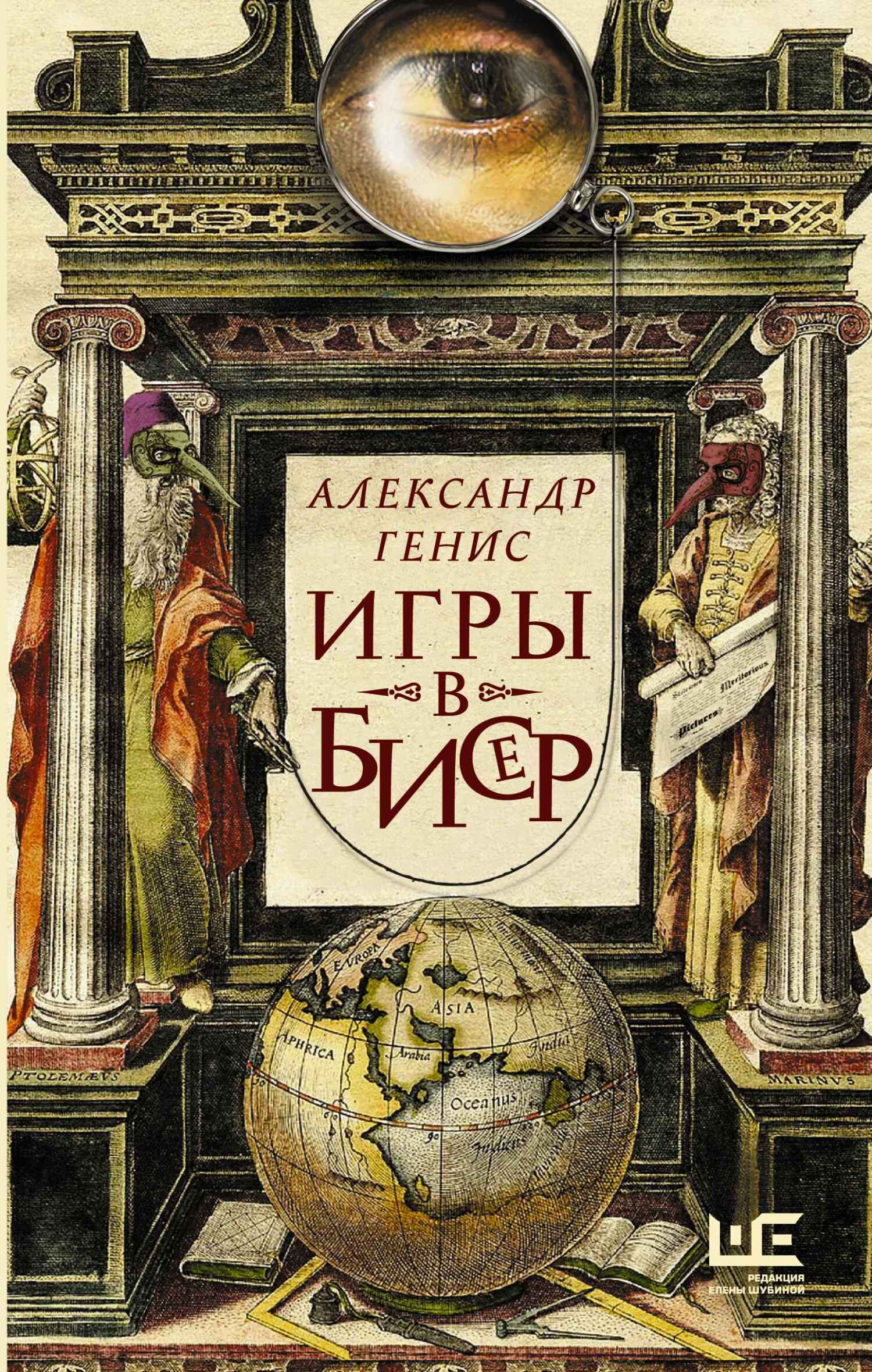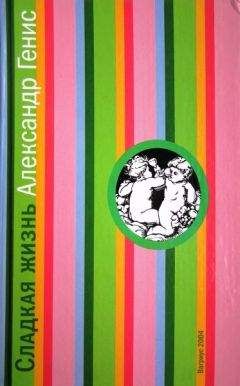чудовищное испытание, которое не все сумели пережить. Так, поклонники надеялись, что в столе Юрия Казакова, считавшегося новым Буниным, окажутся его гениальные рукописи. Но когда он умер, в ящиках письменного стола нашли одни пустые бутылки.
Поэт говорит с Богом, с народом, со временем или с вечностью. Но и он нуждается в тех, кто подслушивает эту беседу. Бродский с горечью рассказывал, как в первые американские годы переживал оттого, что некому было оценить его изобретательные и непереводимые рифмы. Потом приехали мы, третья волна, и он нашел, с кем ими делиться.
Но это – Бродский! Остальным было сложнее. Дефицит читателей, особенно своих, – непростое испытание для любого автора. Гёте говорил, что в Веймаре “на десять тысяч поэтов приходилось несколько горожан”. Примерно так я себя чувствовал в эмиграции, где журналов было больше, чем подписчиков.
Сейчас ситуация существенно ухудшилась, потому что чтению составляют конкуренцию новые, а вернее, очень старые способы общения с автором – стримы. Архаическое, как во времена аэдов, ремесло устного рассказа выдавливает чтение еще дальше на обочину, где оно соседствует с такими нарядными пережитками, как каллиграфия или бальные танцы.
Но перед новым вызовом, который бросает нам машина, искусство чтения обретает и новое – субстанциальное – значение. Homo legens спасает homo sapiens: пока читаем, мы себе нужны. И не только себе.
6. Литерати
Пусть читающие в меньшинстве и в загоне. Пусть они плетутся в хвосте на марше культуры. Но составляя ее арьергард, они защищают тылы от безграмотных, наступающих нам на пятки, даже не замечая этого.
Арьергард – важное, а может, и самое важное место. Каждый раз, когда существованию культуры угрожает время, она держится на тонкой прослойке людей, которым она, культура, нужна и понятна. Кем бы ни была эта публика, все в ней читатели.
В старом Китае к таким относились “литерати”. Они приобретали особое значение всякий раз, когда власть доставалась варварам, которым читатели были не нужны вовсе. Изгнанные из политики, лишенные постов и влияния, литерати, словно наши богемные сторожа и кочегары, прятались в глуши, чтобы им никто не мешал заниматься своим, а не чужим делом. Они сохраняли и передавали умение наслаждаться высоким, трудновыразимым и прекрасным. Они хранили в себе даже не цветы традиции, а ее пыльцу, ту почти неощутимую духовную субстанцию, без которой мир был бы пошлым, жизнь – грубой, искусство – казенным.
Таких не бывает много, но как бы они ни назывались и где бы они ни жили, литерати, говоря по- китайски, – “ци” нации, даже тогда, когда она, увлеченная дикими нравами, об этом не догадывается. Собственно, именно тогда литерати и нужны больше всего. Разойдясь с эпохой, они пестуют ненужные ей достоинства.
Нет дела важнее, ибо без умения читать, смотреть, внимать и слышать умрет все накопленное чередой гениев. И уже некому будет узнать, кем были эти самые гении, почему они ими считались и зачем они нужны. Присутствие в обществе литерати – залог любого Ренессанса. Без них история утрачивает культурную преемственность, становится дискретной и исчезает, не оставляя глубоких следов.
7. Фермент
Создать читателя-литерати не проще, чем убедить в его необходимости. Меньше всего на это способна специально предназначенная для этого наука. Надо отдать должное ее влиянию. Она сделала все и всюду, чтобы отбить страсть к чтению. В моей школе для этого существовал особый предмет – “народолюбие”. С его помощью всех авторов делали неотличимыми, ибо писали они всегда одно и то же. Школьная наука рассказывала, как явно и тайно, но одинаково глубоко народ любили Пушкин, Лермонтов, Некрасов и “Мать” Горького.
На Западе, как я с удивлением обнаружил, сам туда попав, с книгами расправлялась Академия. Выжимая из них все живое, она заменяла его своим и зубодробительным. В Америке будущих филологов дразнят официантами с дипломом. Неудивительно, что их становится все меньше. (Тем более что машины заменяют и тех, других. Недавно я был в ресторане, где еду раздавал конвейер, а напитки развозил робот, который умел петь и не брал на чай.)
Об этом целое поколение назад написал Андрей Синявский в предисловии (не могу удержаться) к нашей книге “Родная речь”: “Кто-то решил, что наука должна быть непременно скучной. Вероятно, для того, чтобы ее больше уважали. <…> Последний приют – филология. Казалось бы: любовь к слову. <…> Так и тут наука. <…> и вот вам, вместо поэзии, очередная пилорама по изготовлению бесчисленных книг”. И дальше Синявский пророчествует: “…скоро читать и производить книги будут одни компьютеры. А людям достанется вывозить продукцию на склады и на свалки!”
Это никоим образом не значит, что Синявский считал бесполезным писать о литературе. Сам он это делал так, что написанное им о литературе становилось ею. По мне, так только такой талант и имеет право называться филологией. В том, что Мандельштам называл “физиологией чтения”, ей отводится незаменимая роль фермента, обеспечивающего усвоение прочитанного.
Этот филологический процесс Шкловский определил прямо-таки с базаровской наглядностью: человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил.
8. Игроки
В справедливо популярном американском сериале шестидесятых “Сумеречная зона” (“The Twilight Zone”) один знаменитый эпизод рассказывает о человеке, одержимом чтением. Пухлый неудачник с отвратительным зрением бесит близких своей страстью, но не может удержаться. Он умеет читать все: случайную книгу, старую газету, вывеску, афишу, аптечный рецепт или ярлык на рубашке. Но вот, как это часто случалось во времена Карибского кризиса, на экране началась и кончилась атомная война. Чудом выживший очкарик оказывается в обезлюдевшем городе перед разоренной библиотекой, из которой прямо на тротуар вываливаются груды книг. Лицо его озаряет счастливая улыбка: наконец никто не помешает читать до самой смерти. Он бросается к книгам, спотыкается, падает и вдребезги разбивает единст- венные очки.
Раньше эта трагедия мне снилась, теперь я слежу за ней наяву. Никогда еще мы не обладали таким богатством, как сегодня. Я до сих пор не могу поверить, что у меня в руках бьется, как золотая рыбка, машинка, открывающая доступ к любой книге в мире (а если и не к любой, то не надо быть занудой).
Юность я провел в азартной охоте за книжными раритетами. Среди них, как бы дико это ни показалось американцам, была Библия, купленная за 25 руб- лей на черном рынке у подозрительного барыги, который подсовывал мне и украденное в спецхране “Самосознание” Бердяева, но уже за сумасшедшие деньги. Неудивительно, что студентом я считал раем не ограниченную цензурой библиотеку.
Честно говоря, я не изменил мнения и в старости. Меня только смущает, что не все туда