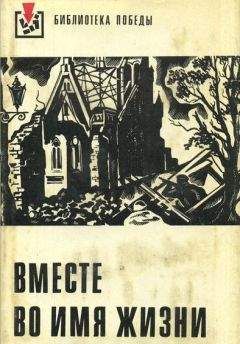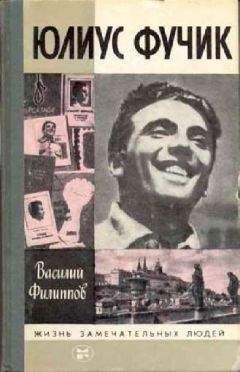я не чувствовала. Затем рука его опустилась, он отошел от окна и положил револьвер на стол. Только теперь у меня задрожали руки. Я прижимала их к телу, стараясь скрыть это от гестаповцев. Бем начал меня убеждать, что пистолеты действительно принадлежали Юлеку, их нашли у него, а я твердила свое:
– У него никогда не было ничего подобного!
Тогда меня отправили в большую комнату, где находился кабинет начальника антикоммунистического отделения Лаймера. Комна-Га была украшена ковром и цветами. Любовь к цветам, собакам, музыке не мешала нацистам истязать людей. В кабинете стоял огромный радиоприемник, а на нем еще один, совсем маленький. Именно он привлек мое внимание. Ведь это приемник из нашей квартиры! Они его у нас украли! Я сказала высокому блондину в черных сапогах для верховой езды – это был Лаймер, что это наш радиоприемник. В ответ он спросил меня:
– С какого времени вы являетесь членом коммунистической партии?
Отрицать, все отрицать. Ведь Юлек мне сказал, что я ничего не знаю.
– Я никогда в партии не состояла.
Лаймер и Бем захохотали.
– Господа, вы смеетесь, но я говорю правду!
– Однако в России вы бывали! – сказал Бем.
Они располагали досье чешской полиции. Было известно, что всю картотеку на коммунистов пражская полиция передала в гестапо.
– Да, была в России!
– Что вы там делали?
– Отдыхала. Ездила туда во время отпуска.
Я когда-то работала в торговом представительстве СССР в Праге, и советские товарищи премировали меня за отличную работу поездкой в Советский Союз. Я была в Союзе дважды: первый раз в 1931 г. нелегально, второй в 1935 г. – по паспорту.
Но гестаповцам я сказала:
– Была один раз.
– Где вы там побывали? – спросил Лаймер.
– В Москве.
На самом деле я ездила в Ленинград, Москву, Харьков, Киев, Донбасс, Крым.
– Только в Москве? А что вы там делали?
– Лечилась в санатории.
– В Праге вы ходили в советское посольство!
– Нет!
– Это говорил ваш муж.
– Не мог он говорить того, чего не было.
На самом деле я бывала в посольстве довольно часто, последний раз —14 марта 1939 г., накануне оккупации нашей страны гитлеровцами. Но Юлек сказал мне: «Ты ничего не знаешь», и я строго придерживалась этого указания.
– Вы знаете Елинекову? – спросил Бем.
– Нет. (Надеюсь, Елинеки не признались, что мы были знакомы…)
– Они уже мертвы. А Баксов знаете?
– Нет.
Только бы они не заметили, как я взволнована.
– В жизни не слышала этой фамилии.
Через минуту я поправилась:
– Нет, извините, слышала. Приматором Праги был Бакса, но он уже умер.
– Баксы тоже мертвы, – заметил Бем.
Он говорил о смерти, как о самом обыденном.
– Что с моим мужем? – спросила я у Бема.
– Если он будет молчать, его казнят!
Бем подошел к двери и открыл ее. Через минуту какой-то гестаповец привел Юлека. Он улыбался мне, хотя едва держался на ногах.
Лаймер грубо сказал:
– Уговорите его, пусть возьмется за ум. Если он не думает о себе, пусть подумает о вас. Даю вам час на размышление. Если он не заговорит и после этого, вас обоих сегодня вечером расстреляют.
Я посмотрела Юлеку в глаза. В них отражалась вся его жизнь, полная борьбы, трудностей и радостей, веры в нашу победу, жизнь, которая никогда не подчинялась судьбе. И ныне, несмотря на физические страдания, он стоял несломленный, полный достоинства.
– Господин комиссар, – ответила я твердо Лаймеру, – это для меня не угроза. Моя последняя просьба: если казните его, казните и меня!
– Вон отсюда! – злобно заорал Лаймер. Я успела еще раз взглянуть на Юлека. Меня увели вниз, в подвал, а через несколько часов отправили обратно в тюрьму на Панкрац. В тюремной автомашине я узнала, что ежедневно многих заключенных увозят в Кобылисы на казнь.
Я сочла за благо в камере об этом не говорить, не хотела тревожить своих товарок, и без того живущих в постоянном нервном напряжении. Минуло еще несколько дней, в течение которых я непрестанно думала о Юлеке в связи с угрозой Лаймера. Никого из нас не вызывали на допрос, поэтому мы не знали, что творится за стенами нашей камеры. Амалка часто рассказывала о своей маленькой дочурке. Она страшно тосковала и тревожилась за нее. Но временами была полна оптимизма и надеялась на встречу с дочерью. Наши заверения, что Амалка будет освобождена, если ни в чем не сознается, принесли свои плоды: она постепенно поверила в это.
Мы любили Амалку. А Ева привязалась к ней, как к родной матери. Вечно голодная, хотя мы и делились с нею жалкими порциями противных сушеных овощей, Ева внимательно слушала наставление Амалки о том, как надо печь слоеные пироги и кексы, как жарить свинину. При этом Ева глотала слюнки, словно пробовала все те яства, которые Амалка мысленно пекла и жарила в нашей мрачной камере. На каждую из нас время от времени наваливалась непомерная тоска; перед нами как бы приподнимался занавес, скрывающий ближайшее будущее, оно представлялось ужасным. В такие моменты мы старались утешать друг друга, отвлекать от тревожных мыслей. И это часто удавалось: мы не хотели думать о смерти, хотя она и стояла у порога.
Блажу вскоре освободили. Она так и не призналась, что слушала иностранные радиопередачи. Прощаясь с нами, обещала прислать Еве белье, а мне – блузку с национальной вышивкой. Я долго носила ее впоследствии. В ней меня возили на допросы. По вечерам стирала блузку в клозетной раковине, а утром вновь ее надевала. Что касается Евы Кирхенберговой, то белье ей уже не понадобилось…
Однажды меня вызвали на допрос. Увижу ли Юлека? Что будет с нами? Осадное положение всем истрепало нервы. Мы плохо спали. Накануне ночью из соседней камеры доносился какой-то шум. Потом в коридоре началась беготня. Эсэсовцы и надзирательницы громко разговаривали. Позже выяснилось, что одна из женщин повесилась в соседней камере на дверной ручке, сделав петлю из носового платка.
На допрос нас повезли в тюремном автобусе. В квадрате слюдяного оконца, словно в жидком тумане, проплывали пражские улицы, пешеходы. Во дворце Печека нас загнали в темную камеру, но вскоре кто-то приоткрыл деревянный ставень. Через зарешеченное окно проникла полоска дневного света. Сквозь щелку мы даже видели ноги людей, проходивших мимо окна.
Я подсела к коммунистке Анке Виковой. В камере не было надзирателей.
– Давно ты здесь? – шепотом спросила я.
– С февраля.
– В какой камере?
Оказалось, что она в камере этапников, ее собираются отправить в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Скорей бы уж! Лучше быть в концентрационном лагере, чем каждый день видеть здесь этих извергов. От