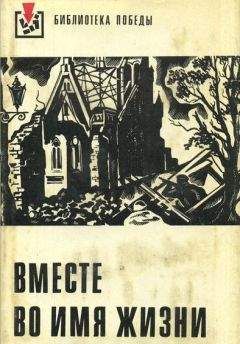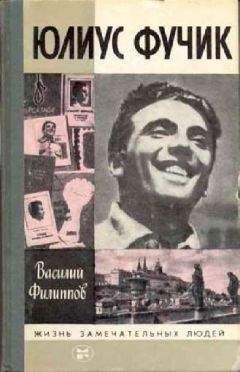Чехов-заключенных они истязали так, что даже многие гестаповцы-немцы не выдерживали этого зрелища. У таких мучителей не могло быть даже лицемерной ссылки на интересы своей нации или германского государства, они мучили и убивали просто из садизма. Они выбивали зубы, били так, что лопались барабанные перепонки, выдавливали глазные яблоки, били ногами в пах, пробивали черепа, забивали до смерти с неслыханной жестокостью, не имевшей других источников, кроме звериной натуры. Ежедневно я видел этих палачей, вынужден был говорить с ними, терпеть их присутствие, от которого все вокруг наполнялось кровью и стонами. Тебе помогала лишь твердая вера, что они не уйдут от возмездия. Не уйдут, даже если бы им удалось умертвить всех свидетелей своих злодеяний!
А рядом с ними, за тем же столом, и как будто в тех же чинах сидели те, которых справедливо было бы назвать Людьми с большой буквы. Люди, которые превращали организацию заключения в организацию заключенных, которые помогали создавать коллектив «четырехсотки» и сами принадлежали к нему всем сердцем, бесстрашно служили ему. Величие их души тем больше, что они не были коммунистами. Наоборот, прежде в качестве чехословацких полицейских они воевали с коммунистами, но потом, когда увидели коммунистов в борьбе с оккупантами, поняли силу и значение коммунистов для всего народа. А поняв, стали помогать общему делу и каждому, кто и в тюрьме оставался верен этому делу».
Я привела большую выдержку из «Репортажа с петлей на шее». Это потому, что мое перо и в малой степени не способно столь точно и с таким мастерством описать «четырехсотку».
Чешский гестаповец, приведя меня в эту комнату, указал место на скамейке в первом ряду и ушел. Я обратила внимание, что заключенных, находившихся здесь, стережет всего лишь один надзиратель – это был чех, по фамилии Залуский. При буржуазной республике он служил в пражской полиции. В период оккупации был зачислен в гестапо. Комната напоминала улей, заключенные перешептывались и даже поворачивались друг к другу. А чешский надзиратель словно ничего не слышал и не видел. Меня это очень удивило. Я также стала оглядываться, ища Юлека. Он сидел на стуле в углу позади меня.
Какой-то заключенный, обернувшись к нему, что-то шептал. Юлек, чуть наклонившись к товарищу, отвечал. С ним многие стремились поговорить, посоветоваться. Фучик моргал и кивал головой, прося повременить, пока он закончит разговор.
Я настолько осмелела, что повернулась к Юлеку. Вдруг слышу шепот: «Густа! На, возьми!» Быстро оглянулась. Передо мной стоял старый знакомый, товарищ Ренек Терингл, и протягивал шоколадную конфету. Я прошептала: «Отдай ее лучше Юлеку. Он нуждается в этом больше, чем я». Ренек добродушно ответил: «Глупая, ведь он тоже получит». Я взяла конфету, но не съела – мне казалось, что она поможет Юлеку выздороветь, словно чудодейственное лекарство. Я встала и подошла к надзирателю-чеху, сидевшему за столом в углу. «Могу ли я передать эту конфету туда?» Я указала на противоположный угол, где сидел Юлек. Мне тогда еще не было известно, что Юлека уже знают под его настоящим именем. Надзиратель молча кивнул. Я стремглав бросилась к Фучику. «Юлек мой!» – зашептала я и дотронулась рукой до его лица. Он улыбнулся так, словно мы встретились на свободе, и тоже прошептал: «Густина!». Пожал мою руку и быстро шепнул: «Ты ничего не знаешь, я жил дома». В этот момент кто-то предостерегающе прошептал: «Внимание!»– один из заключенных, сидевший впереди, заметил через застекленную дверь приближающуюся тень. Я успела вовремя вернуться на свое место.
В комнате воцарилась мертвая тишина. Вошел тощий как скелет гестаповец. Это был Бем. Хищным взглядом оглядел заключенных. Затем резко выкрикнул: «Фучик!» Я встала. «Выходи!» Я шла легко, счастливая, что перед допросом сумела поговорить с Юлеком. Бем привел меня в канцелярию, где шумно развлекались двое гестаповцев в штатском. Когда мы вошли, они затихли. Одного из них я узнала: он принимал участие в моем аресте. Фамилия его Сауервейн. Бем подвел меня к письменному столу, а сам сел в кресло. На стене напротив него висел портрет Гитлера.
– Где жил ваш муж? – начал Бем по-немецки, хотя, как впоследствии я узнала, он хорошо говорил по-чешски.
– Дома, – ответила я спокойно.
Сауервейн тут же закричал:
– Как же это? Жил дома, а вы его не узнали.
Не обращая на него внимания, я обратилась к Бему, взвешивая каждое слово, чтобы не попасть в ловушку:
– Как же я могла узнать его, господин комиссар, ведь вы так его обработали.
Сауервейн подскочил и сильно ударил меня.
Бем сидел у стола, закинув ногу на ногу, и кивал головой, словно подтверждал: «Да, мы так его «отделали», что даже собственная жена не узнала». Затем выдвинул ящик стола, вынул два револьвера и положил на стол:
– Если он жил дома, вы должны узнать это!
Я, конечно, их узнала! Юлек всегда держал эти пистолеты при себе. У Баксов он прятал их в ящике письменного стола, а когда приходил к Елинекам либо к Рыбаржам, то клал на ночной столик.
– Не знаю. Мой муж никогда ничего подобного не имел! – ответила я твердо.
Бем молчал. Он снова выдвинул ящик и вынул оттуда удостоверение личности:
– Но это уж наверняка вам знакомо!
Да, оно было мне знакомо – это фальшивое удостоверение на имя учителя Ярослава Горака. Что ответить? Только осторожно!
– Фотография мне известна, а само удостоверение нет.
– Если он жил дома, то и удостоверение должно быть вам известно! Ведь он носил его в кармане пиджака!
– Господин комиссар, в карманы мужа я никогда не лазаю. Это ниже моего достоинства!
– Где он стал отращивать бороду? – спросил второй гестаповец.
– Дома, – лгала я.
Начиная с лета 1940 г. Юлек не только не жил дома, но даже не переступал порога нашей квартиры. Я утверждала, что он жил дома, чтобы уберечь товарищей, у которых Фучик скрывался.
– Зачем понадобилась ему эта борода? Почему он вообще скрывался, ведь мы бы ему ничего не сделали, – лицемерно заявил Бем.
– Господин комиссар, вы сами знаете, какую репутацию снискало ваше учреждение, – сказала я ему прямо в лицо и невольно чуть съежилась. Однако удара не последовало.
Бем заорал:
– Вы знаете об этих пистолетах! Откуда они у него?
– Никогда никаких пистолетов у него не было! – твердила я. Бем взял один револьвер и отошел к окну. Я наблюдала за ним. Гестаповец резко обернулся и прицелился в меня:
– Вам знакомы эти пистолеты!
Я нервно рассмеялась.
– Нет! Мой муж никогда таких вещей не имел!
Пистолет в руке Бема все еще был направлен на меня.
Но, как ни странно, страха