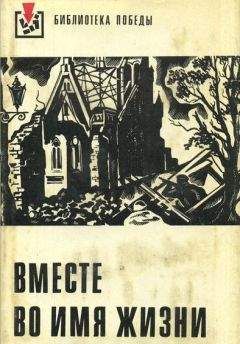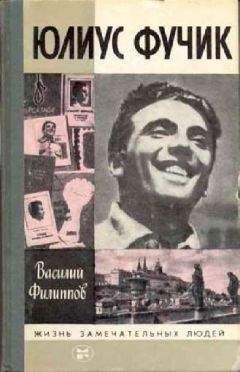этого можно с ума сойти. «Но перед гестаповцами держусь молодцом!»– со вздохом добавила Анка. Внезапно камера осветилась ярким светом. Мы замерли, как каменные изваяния. В углу у окна появилась голова эсэсовца. Его глаза испытующе оглядывали каждую женщину. Откуда он взялся? Напротив, у двери я увидела другого. Он смотрел на нас через маленькое оконце из соседней комнаты. Мы не слышали, как он отворил деревянную форточку. Это его физиономия отразилась в зеркале в углу камеры. Таким образом, все обитатели комнаты были в поле его зрения. Но, к счастью, он не заметил ничего предосудительного.
Я просидела в темной камере целый день. Но на допрос меня так и не вызвали, и вечером отправили обратно в тюрьму.
Однако вскоре меня вновь отвезли во дворец Печека, на этот раз в грузовой автомашине, крытой брезентом. В уже знакомой темной камере я опять встретилась с Анкой Виковой. Она подскочила ко мне и зашептала: «Юла просил тебя на допросе сказать, что у вас была одна женщина…» В этот миг открылась дверь: гестаповец явился за Анкой. Ей так и не суждено было передать мне поручение Юлека…
На лифте меня подняли на пятый этаж. Я напряженно думала: что хотел передать мне Юлек, о какой женщине идет речь? Ведь ни одна женщина не приходила к нам! В «четырехсотке», позади всех, на отдельном стуле, чтобы никто не мог к нему приблизиться, сидел Юлек. Я ждала подходящего момента, чтобы поговорить с ним. Но заключенных стерегли кроме Залуского еще два стражника, поэтому возможность разговора исключалась. Однако я заметила, как некоторые заключенные, наклоняя голову, скрывают еле заметное движение губ.
– Головы вверх, бараны! – раздался вдруг окрик чешского гестаповца Пошика. Это была обычная форма обращения к заключенным.
– Теперь мы для вас бараны. Но когда все это кончится, нашими именами назовут улицы, а вы там будете висеть на фонарных столбах! – отозвался ясный голос Юлека.
Пошика так ошарашила смелая отповедь, что он лишь огрызнулся:
– Фучик, что это ты себе позволяешь!
Я оглянулась на Юлека. Он смело глядел на Пошика. Не выдержав этого взгляда, надзиратель в бессильной злобе отвернулся.
В «четырехсотку» быстро вошел Бем.
– Где Ираскова? Где Ираскова? – торопливо спрашивал он, с ненавистью смотря на нас. Анички Ирасковой в «четырехсотке» еще не было. Глаза Бема остановились на мне:
– Фучик, пошли, быстро!
Он увел меня в свою канцелярию.
– Вы ходили к зубному врачу? – начал он.
Я остолбенела. Откуда он это знает и что ему еще известно? Через минуту я ответила.
– Да.
– Вы знаете, что вам нельзя было ходить к нему? Ведь он евреи!
Я возразила с такой находчивостью, что даже сама удивилась:
– А я вовсе не к нему ходила, а к его жене. Она арийка, зубной техник.
– Кто еще туда ходил? – спросил Бем.
Разве я могла кого-нибудь назвать? Ничто не заставило бы меня произнести имена товарищей Курта Гласера, Вожены Поровой, Зденека Новака.
– Пациенты, – ответила я.
– Пациенты! – передразнил он. – Какие пациенты, кто именно? Я их приведу к вам, покажу!
Сердце мое бешено забилось, руки задрожали. Бем выбежал. Я напряженно ждала. Однако возвратился он один, только с хлыстом в руке. Видимо, он никого не мог мне показать.
– Я вас вторично спрашиваю, кто еще ходил к зубному врачу? – вскричал Бем, и хлыст просвистел в воздухе.
– Господин комиссар, когда у человека болят зубы, он идет к доктору и не обращает внимания на других пациентов.
– А кто ходил к вам? – вскричал Бем.
– Никто.
– Врете!
– Никто, господин комиссар.
Женщину, про которую мне шептала Анка Викова, я не хотела упоминать, боялась, что Бем прицепится и начнет расспрашивать. Но вдруг, решившись, я прервала его:
– Извините, вспомнила, у нас бывала одна женщина.
Бем необычайно оживился. Он определенно думал, что нащупал нить, с помощью которой распутает весь клубок.
– Что это за женщина?
– Я ее не знаю.
– Кого она спрашивала?
– Моего мужа.
– Что она от него хотела?
– Не знаю.
– Как же это вы не знаете?
– Я ее ни о чем не расспрашивала.
– Долго ли она у вас задерживалась?
– На минутку. (Если бы я только знала, говорю ли я то, что нужно. Что ему говорил Юлек?!)
– Сколько раз она у вас бывала?
– Один раз.
– Как выглядела?
– Я не обратила внимания.
– Но вы должны все же знать, как она выглядела. Была ли она похожа на служащую или домашнюю хозяйку!
– Скорее всего на служащую, однако, возможно, и на домашнюю хозяйку.
– Какого цвета у нее волосы – светлые или каштановые?
– Я не заметила. Кажется, светлые, а может быть, каштановые.
– Как она одета?
– На ней был пыльник.
– Сколько ей лет?
– Не знаю.
– Но вы же с ней разговаривали. Молодая она или старая? Было ей тридцать или сорок лет?
– Я не знаю. Не присматривалась. Возможно, что ей было тридцать, а может быть, и все сорок лет.
– Эту женщину мы должны отыскать! – кричал Бем, размахивая хлыстом.
Он метался по канцелярии, словно помешанный, а потом вдруг заорал:
– Вон!
Гестаповец отвел меня в «четырехсотку»; вскоре там опять появился Бем.
– Где Ираскова? Где Ираскова?
Но и на сей раз Ирасковой там не было. Ее привезли из Панкраца около полудня. Позже я узнала от товарища Лоренца, что Бем вызывал Ираскову лишь затем, чтобы объявить ей о смертном приговоре. Вечером 24 июня ее увезли в Кобы лисы…
Я очень хотела рассказать Юлеку о своих показаниях. Такая возможность представилась лишь в полдень, когда нас выстроили, чтобы вести на обед. Заключенным приходилось поддерживать Юлека – он был плох. Мы очутились близко друг от друга. Я торопливо шепотом рассказала ему о допросе. Он тихо произнес: «Молодец!». Это было для меня наивысшей наградой.
Конечно, с несуществующей женщиной я немного напутала. Мне следовало сказать, что она у нас была два раза и всегда спрашивала «господина учителя». Юлек наговорил Бему, будто женщина приходила в качестве связной от кого-то из членов Центрального Комитета партии. Юлек хотел таким путем опровергнуть утверждение Мирека – Клецана, что Фучик сам являлся членом Центрального Комитета коммунистической партии.
Через два дня увели на допрос Амалку. Обратно в тюрьму ее привезли в полном отчаянии. Гестаповцы разрешили ей свидание с мужем и дочуркой. Амалке удалось поцеловать ребенка, и девочка, обняв мать, не хотела отпускать ее, не понимая, почему мама не хочет идти домой. Плачущего ребенка гестаповцы насильно оторвали от матери. Амалка, напрягая все силы, всю волю, еле удержалась от рыданий. Прощаясь, она просила мужа прислать ей чистое белье. Но один