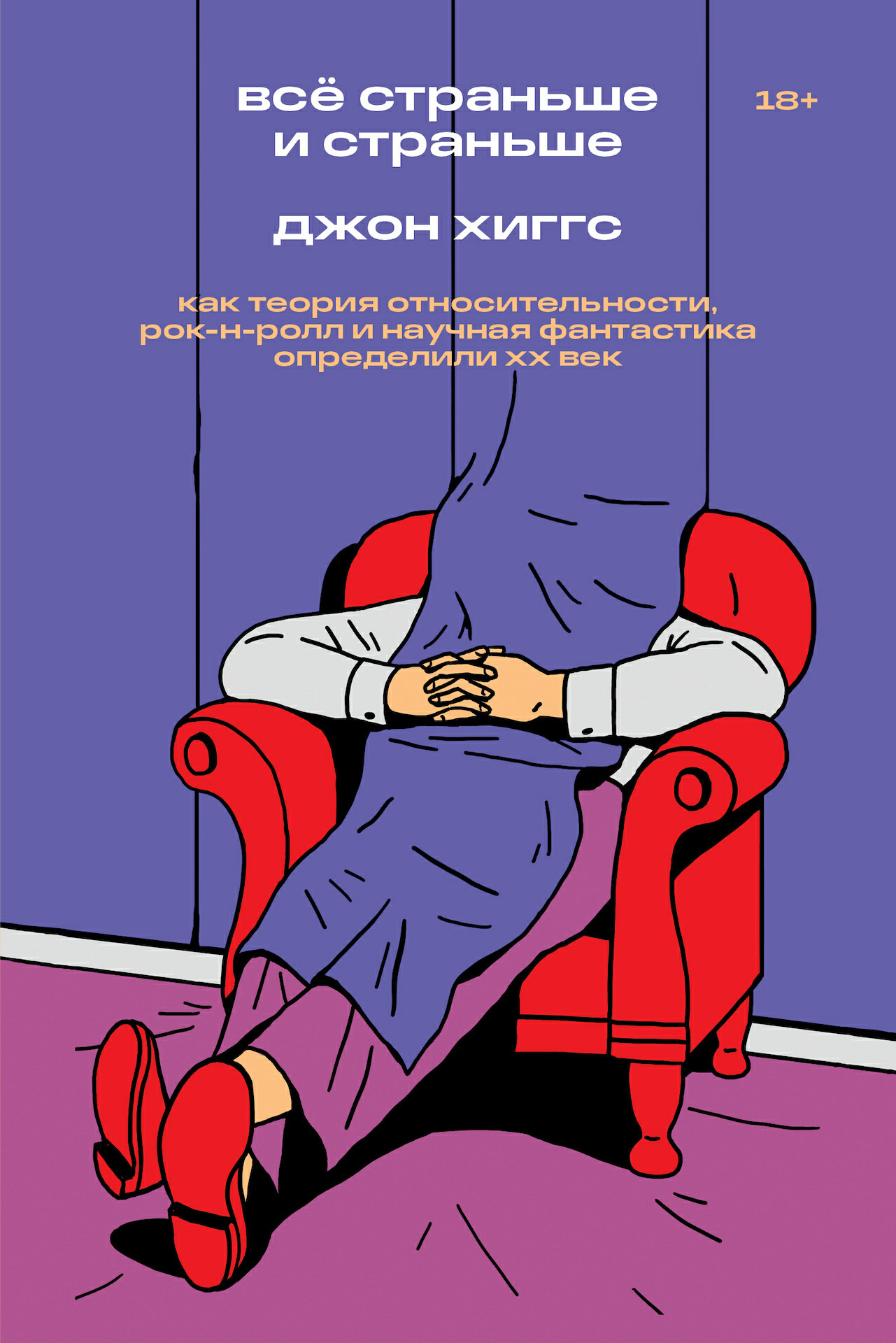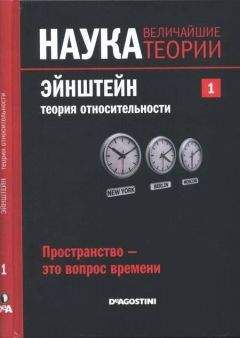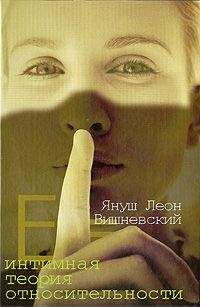не добавляет доверия к церкви, что бы ни думали сами церковники. Примечательно, что более индивидуалистские направления американского христианства, не поддавшиеся мировой тенденции к оттоку прихожан, не особенно проповедуют такие фундаментальные ценности своего вероучения, как любовь и социальная справедливость.
Культуру любви, принесенную хиппи, в 1970–1980-х годах вытеснила кокаиновая культура, подпитывающая эго. Любые неиндивидуалистические модели мира отвергались как вдохновленные наркотиками, а следовательно, ложные. Робким попыткам хиппи описать свое новое видение недоставало четкости и убедительности, они не устояли под натиском, и пришедшие следом панки отбросили их как позорный провал. Тем не менее в последующие десятилетия многие из идей хиппи просочились в доминирующие культурные модели.
Один из способов понять, почему XX веку так по душе индивидуализм, – родить ребенка и подождать, пока он или она станет подростком.
Дети поменьше принимают свое место в семейной иерархии, но едва ребенок становится подростком, фокус его внимания перемещается с группы на него самого. Любое происшествие, любой разговор фильтруются через вечное «А как же я?». Даже самые заботливые и любящие сыновья и дочери становятся легкомысленными эгоистами. Мысли о ближних отодвигаются на периферию сознания, а все попытки заставить подростка подумать о других опрокидываются универсальным возражением: «Так нечестно». У этой перемены есть неврологические причины. Ученые пишут, что взрослеющие дети больше поглощены собой и своими переживаниями, чем дети до пубертата.
Алистер Кроули, видимо, что-то такое уловил, когда провозгласил конец патриархальной эпохи и приход ей на смену «третьего эона», властителем которого будет «венценосное и побеждающее дитя». Распространение индивидуализма в XX веке поразительно похоже на подростковый кризис.
Подростковый поведенческий сдвиг – это не просто грубость и бунт. Именно в этом возрасте формируется взрослая личность, а этот процесс, вероятно, и должен начинаться с некоторого погружения в себя. Но в культуре второй половины XX века что-то оказалось созвучно такому погружению, как ничто иное прежде. Отчасти причина тому крылась в демографии: в результате послевоенного беби-бума подростков в эти годы стало больше обычного. Взрослеющие дети вышли на передний план и – впервые – получили особое имя. Тинейджер – это слово появилось в 1940-е. Как с «геноцидом» или «расизмом», сегодня удивительно, что этот термин возник столь недавно.
После войны обозначился межпоколенческий разрыв. Родители и старики пережили войну. Они видели смерть родных и друзей, усвоили, что все ценное и дорогое в жизни держится на волоске, и не умели сколько-нибудь уверенно смотреть в будущее. Но для детей мир был совсем другим местом, и они относились к нему иначе. В экономике начался глобальный бум, который продлится с конца Второй мировой до 1970-х. Для тех, кто хотел работать, работа была, и она приносила деньги на покупку машин, радиоприемников и иных благ цивилизации. В молодых «бумеров» – за исключением призванных на далекие войны вроде Вьетнамской – никто не стрелял. Им не приходилось ломать голову о том, что они будут есть в следующий раз. Особенно наглядно это было в Соединенных Штатах, где не требовалось восстанавливать хозяйство, разрушенное войной. Это была огромная, полная ресурсов страна в самом начале ее золотого века. И жизнь будет прекрасной, казалось тинейджерам, если только старые нытики уймутся и отстанут от них.
Бумеры заработали у поколения родителей репутацию буянов и хулиганов. Старшим казалось, что подростки думают лишь об удовольствиях, не ставя перед собой никаких больших целей. Подростки же считали, что родители увязли в прошлом и отстали от жизни. И просто ничего не понимают. Как говорили хиппи шестидесятых, «не доверяй никому старше тридцати». Рубеж, разделивший поколения, был заметен по резкой смене гардероба. У мужчин пиджаки, галстуки и шляпы, более века служившие стандартным костюмом, сменились на свободные футболки, джинсы и кроссовки. Если бы подростку конца прошлого столетия показали фотографии художников-модернистов, он не поверил бы, увидев только портреты скучных благообразных пенсионеров. Конечно, модернисты были мятежнее, опаснее и свободнее, чем средний подросток-бумер, но аккуратные прически и костюмы-тройки дискредитировали бы их вполне и совершенно. Да и вообще: что может сообщить старая культура о жизни во второй половине XX века?
Молодежная культура 1950-х стала истоком контркультуры. Она определяла себя не по тому, чем была, а по тому, чем не была, поскольку ее целью было служить альтернативой господствующей культуре. Контркультуры существовали на разных этапах человеческой истории: от последователей Сократа до даосов и суфиев, – но лишь крайне индивидуалистическая природа XX века создала идеальную экосистему, где такие культуры могли расти, процветать и буйствовать.
Историк Кен Гоффман отмечает, что, как бы ни стремилась контркультура определять себя через противостояние тем, кто у власти, суть ее в ином. По мнению Гоффмана, контркультуры стремятся «максимально освободить индивидуальную творческую волю от любых ограничений, где только можно и как только можно».
На протяжении без малого сорока лет, начиная с середины 1950-х, бурное кипение индивидуального творчества заставило подростковую контркультуру расти и мутировать в самых неожиданных направлениях. Каждая следующая волна тинейджеров хотела выйти на собственную сцену, радикально отличную от той, что была у старших братьев и сестер. Новые технологии и новые наркотики питали непрерывное преобразование. Рок-н-ролл сменился психоделическим роком, за которым пришел панк, а за ним – рейв. Музыкальные направления, такие как диско, хип-хоп, регги и хэви-метал, возникали одно за другим, укрепляя ощущение бескрайней перспективы, столь густо пропитавшее поп-музыку конца XX века. Эти контркультуры росли и расширялись – и в конце концов сами стали «официальной» музыкальной культурой, ради ниспровержения которой когда-то явились на свет. Подростковая аудитория повзрослела, и рок-н-ролл стал мейнстримом.
За это время курс на индивидуализм получил благословение политиков. Его доминирование в конце семидесятых закрепило восхождение Маргарет Тэтчер. С этого момента согласно логике политического трайбализма любые аргументы против индивидуализма либо просто игнорировались, либо со всех сторон подвергались нападению.
Свою позицию Тэтчер очертила в интервью журналу Women’s Own, опубликованном на Хэллоуин 1987 года: «Считаю, что в недавнем прошлом слишком многих детей, да и взрослых научили думать: „У меня проблемы и правительство должно их решить!“, или „У меня возникли трудности нужно пойти и получить грант!“, или „Я бездомный, правительство обязано дать мне жилье“, так что они перекладывали свои проблемы на общество, но общество – это кто? Такой вещи не существует! Есть отдельные люди, и есть семьи, и никакое правительство ничего не может сделать иначе как руками людей, и люди в первую очередь заботятся о себе».
Позже кабинет министров против всякого обыкновения сделал заявление в Sunday Times, поясняющее высказывания премьера. «Слишком часто беды этой страны выдают за беды общества, – гласил текст. – И когда нужно что-нибудь делать, к действию