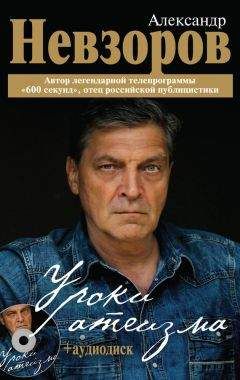Наилучший пример — Э. Геккель. В своей «Естественной истории миротворения», в части I (Общее учение о развитии) он пишет: «Отрицать спонтанное зарождение — это значит признать чудо, божественное творение жизни. Или жизнь зарождается самопроизвольно на основании тех или иных закономерностей, или она создана сверхъестественными силами.»
Любопытным образчиком материалистического отчаяния является и позиция Г. Бестиана, который «до самой своей смерти, последовавшей в 1915 году, упорствовал в своей вере в самопроизвольное зарождение». (Д. Кеньон, Г. Стейнман Биохимическое предопределение М.1972)
Кроме теории эволюции, на метафизическую идею «работали» и первые гистологические разработки.
Открытие свойств живой клетки сделанные Молем, Шлейденом, Пуркинье и Шванном разъяснили биологическую сложность этой микроскопической основы жизни. Стала очевидна абсолютная невозможность ее случайного появления среди раскаленных камней архея. Эта очевиднейшая вещь опять-таки неумолимо выводила к фактору «сверхестественного вмешательства».
Метафизика торжествовала и праздновала победу.
Впрочем, опаленные и простреленные знамена рационализма все еще развевались.
Естественники не сдавали своих безнадежных позиций, ожидая «подкреплений», уповая на возможность научного познания «главной тайны мира». Их, как мог, утешал Клод Бернар, говоря, что: «Но на самом деле тайна рождения (жизни) не более темна, чем все другие тайны жизни, но и не менее».
Выглядели материалистические позиции весьма печально.
Вспомним их.
В самом начале XX века головы читающих дам кружила «космозоальная» версия (позже ее переимуют в «панспермию»).
Согласно ей, микрозародыши жизни были принесены на планету метеоритами из космоса. Публика эту гипотезу приняла очень благосклонно.
Возможная инопланетность общего происхождения жизни подслащала горечь «обезьяньего фактора».
Впрочем, космозоа (панспермия), несмотря на ее поддержку Гельмгольцем, Томсоном и Вернадским, была, в принципе, недоказуемой и не проверяемой, т. е. находилась вне академической науки. Она была очень хороша лишь, как турник для интеллектуальной гимнастики.
Позже панспермийцы получат подарок в виде трех метеоритов.
Первым и самым мелким станет «Мерчисонский», взорвавшийся в 1969 году над австралийской деревушкой. Этот метеорит, как выяснилось, содержал в своем веществе 18 аминокислот, а также следы парафинов, фенолов, спиртов и углеводов. Из восемнадцати аминокислот «Мерчисона» как минимум пять были идентичны тем, что содержатся в белках.
Второй метеорит был значительно крупнее и мощнее «Мерчисона». Он был специально пристрелян по противникам гипотезы панспермии и всегда оставлял после своих попаданий многокилометровые дымящиеся воронки. Как вы, вероятно, уже поняли, речь идет об открывателе пространственной структуры ДНК, сэре Френсисе Крике. Тот вдруг проникся идеями панспермии и произвел несколько образцовых погромов в классической эволюционной биологии.
Третьим метеоритом стал астрофизик Фред Хойл, обладавший не меньшим, чем Крик, разрушительным потенциалом.
Впрочем, эти три явления (как мы уже отметили) произойдут позже.
Если мы продолжим осмотр прорванной и смятой линии фронта естественников, то увидим, что Гаад (1878), Квинке (1888) и Траубе (1866) пытались лабораторным способом воспроизвести простейшие организмы и протоплазму. Аллен (1899) и Пфлюгер (1875) (один за другим) делали попытки «лобового» синтеза белка на основе сверхактивных цианистых соединений.
В другом «окопе» героичный Вильгельм Оствальд, а также Шарф, Шульце, Раубер, Пржибрам и Леман искали ключ от тайны жизнезарождения в уподоблении кристаллов и организмов.
Все эти попытки не были успешными. Растерянность материалистов усугублялась: «Но, может быть, то, что невозможно в лаборатории, совершается все же в природе? Может быть, где-нибудь на земле безжизненный материал все-таки превращается в живые существа?» (Итоги науки в теории и практике Т5. 1912)
Отметим, что настоящее хладнокровие в естественническом лагере сохранял лишь Томас Генри Гексли.
Пожалуй, он единственный не «кланялся» телеологическим и креационистским «пулям», не паниковал, а «насвистывая гулял по гребню окопа», вдохновляя своим мужеством рационалистов.
Гексли замечательно трезво оценил кембрийские организмы, которые практически весь ученый мир считал «первыми» на земле: «Принимая во внимание организацию этих моллюсков и ракообразных и их очень сложное строение, мне кажется, требуется немалая доля воображения, чтобы увидеть в них первые создания живого мира… Я думаю, нет никакой возможности допустить справедливость предположения, что эти формы именно и представляют зачатки органической жизни…»
Отметим, что сейчас мы говорим именно о жизнезарождении, не касаясь вопросов возникновения «разума и мышления», а тем более интеллекта человека.
Эта тема, тоже, всегда была (и есть) козырем метафизики, не менее мощным, чем происхождение первой клетки.
Ни конвергенцией, ни отбором, ни какими либо иными механизмами эволюции было невозможно объяснить, почему существо, в течении сотен тысяч лет не дотягивавшее даже до уровня нормального слабоумия, внезапно обзавелось выдающимися (по меркам животного мира) интеллектуальными способностями.
По сути, появление интеллекта было еще одним «взрывом», тогда не имевшим никакого объяснения, кроме метафизического.
Происшедшие несколько тысяч лет назад изобретения колеса, построек, некоторых механизмов, земледелия, а также радикальное упорядочение общественных отношений в стаях homo было названо «неолитической революцией» и «одной из величайших тайн в развитии человечества». (Чайлд, «Человек создает себя» 1936)
Как мы помним, в свое время Дарвин крайне неосмотрительно написал: «Моя цель — показать, что между человеком и высшими животными нет принципиального отличия в умственных возможностях» и «различие в умственных способностях между человеком и высшими животными, как бы оно не было велико, конечно, количественное, а не качественное».
Эти роковые фразы послужили приглашением «на огонек» для орд психологов, виталистов и других любителей высоких материй. Они приняли его, ввалились в эволюционную теорию и с удовольствием устроили в ней образцово-показательный погром, уже не стесняясь в выражениях и глумясь над всем, что попадалось им под руку.
«Печать бессмысленности и абсурда, напечатленная на челе мироздания… Никакая форма грубейшего материализма не опускалась до такого низменного миросозерцания…» «Если это так, то у человечества есть только один выход — умереть от тошноты и омерзения к самому себе». (Н. Я. Данилевский Дарвинизм. Критическое исследование т1.СПБ 1885)
Были и еще более живописные высказывания, но, во имя соблюдения академического стиля нашего исследования, мы их все же опустим.
Дарвин печалился: «Тяжело быть ненавидимым в такой степени, как ненавидят меня».
Надо сказать, что Дарвин за свои размышления об уме человека тогда получил по заслугам, так как перешел «рубикон» безоружным.
Никакими серьезными аргументами свои сенсационные утверждения он подкрепить не мог.
Дело в том, что их еще не существовало.
Это была как раз та ситуация, когда идея уже родилась, а ее доказательства (в виде ТУР) на свет еще не появились.
Напомню, что такая ситуация не редкость в науке. Джеймс Дальтон в свое время высказался о особенностях атомов, но подтверждение его мыслей стало возможно лишь через сто лет. Гюйгенс в XVII веке разгадал волновую природу света, но предоставить убедительных доказательств не смог.
Конечно, похожие репризы по теме мозга и мышления позволяли себе еще в XVIII веке Ламметри и Гольбах.
Кстати, почти безнаказанно.
Но, в отличии от Дарвина, у них, как у публицистов, была «лицензия на хулиганство», да и говорили от имени философии, а не академической науки.
Следует вспомнить и грозную репутацию этой парочки.
Прелаты и профессора, зная, что перья «двух негодяев» смертоносны и мгновенно превращают оппонентов в посмешища, аккуратно объявили натурфилософов «безумцами», и все стихло.
С Дарвиным все было иначе: одно дело — усоногие раки, вьюрки и «другие ракушки», другое — покушение на святая святых человеческого достоинства с позиций глубинного естествознания. Дарвина шельмовали долго и беспощадно.
Проклятия церкви, которые пришлось выслушать сэру Чарльзу, кстати, были значительно мягче и тактичнее, чем череда истеричных приговоров, вынесенных Дарвину научным сообществом.