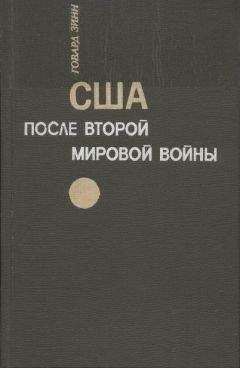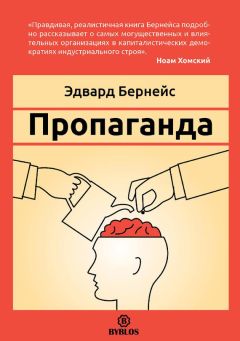прежний смысл понятий дополнился экономическими интересами. «Выбор» стал оправданием для отказа от общественного контроля над школами и больницами, а «свобода» трансмутировала в распродажу государственной собственности.
«Тэтчер удалось убедить людей в том, что государство способно приносить пользу только угнетающим коллективистским путем, а приватизация приносит людям освобождение», – сказала мне Муффе по-английски с сильным акцентом. В понятии «либеральная демократия», по ее мнению, произошел слишком большой перекос в сторону слова «либеральная», в результате чего финансисты получили больше привилегий, когда на самом деле нам было нужно больше «демократии» или того, что она называла словом «равенство». Казалось, что она изо всех сил хочет разграничить слова, которые, по ее мнению, были соединены вместе ошибочно.
Со времен финансового кризиса 2008 года все изменилось. Самые важные битвы за власть разворачиваются в пространстве, где слова, желания, смыслы и поведение постоянно соединяются и распадаются, – процесс, похожий на то, что «Хизб» называет «культивацией». Именно так теперь формулируется понятие «нормы». Муффе использовала для описания этого процесса термин «мета-политика», придуманный итальянским философом Антонио Грамши.
Муффе – не просто теоретик. Она сотрудничала с левым движением Podemos в Испании и La France Insoumise во Франции. Она рассказала мне любопытную историю о том, как французские левые политики ездили в регионы страны, традиционно голосовавшие за правых националистов и антииммигрантскую партию Марин Ле Пен, и пытались убедить жителей в том, что настоящие враги – не иностранцы, а финансовая элита, ввергавшая их в бедность. «Идентичность – это результат политических манипуляций», – заявила она.
Но, несмотря на весь энтузиазм Муффе, мне было неспокойно. Разве старые понятия свобод, если сейчас вообще можно использовать этот термин, возникли без серьезных на то причин? Муффе говорила о потребности в харизматическом лидере, «агенте выражения мнения», способного объединить разные ожидания и обиды «народа» в новом смысле слова; о необходимости сильных страстей и выражении самых глубоких и подсознательных движущих сил. Она говорила и о том, как важно дать определение понятию «враг» [139]. По ее мнению, этот процесс возможен в рамках демократических установок, но было несложно представить крен в самую страшную сторону.
Муффе согласна с тем, что мы живем в опасное время. Все может пойти в более авторитарном направлении или, наоборот, в более демократическом. Вопрос в том, как мы определяем понятия «мы» и «они».
Возможно, никто не понимал эту игру лучше Мартина Зельнера (с ним мы уже встречались в части 2), который использовал тактику протеста Срджи Поповича для продвижения своего видения «культурно однородной» Европы.
«Мы не хотим, чтобы Мехмед и Мустафа становились европейцами, – гласит манифест Génération Identitaire. – Европа принадлежит только европейцам. Потому что мы – Поколение Идентичности».
Зельнер, как и Муффе (и раньше Грамши), много говорил о мета-политике. Когда я снова связался с ним, на этот раз для сбора документального материала для радио BBC, он объяснил: «Наша цель как правого авангарда – показать людям, что завтрашняя норма не обязательно будет совпадать с тем, что кажется нормальным сегодня. Политическая „нормальность“ изменчива, динамична и относительна».
Он использует язык прав и свобод – особенно прав женщин – для достижения собственных целей. На одной из его акций идентитаристки посетили митинг в поддержку прав женщин в Германии, где раздавали листовки с описанием случаев изнасилований, совершенных мусульманскими мигрантами (инциденты действительно имели место, однако подавляющее большинство сексуальных преступлений совершаются не бродягами-мигрантами, а людьми, хорошо знакомыми с жертвами). Во время другой своей акции Зельнер натянул мусульманскую бурку на статую императрицы Австро-Венгрии Марии Терезии в Вене. Но этот язык говорит не о насилии, он обращен к свободе слова, демократии и открытости к новым идеям…
«Наши враги бессильны, потому что они пытаются лепить на нас старые ярлыки и бороться с нами так же, как с правыми маргиналами, которым они противостояли несколько десятилетий назад», – заявил он в моей программе. Нужно сказать, что при подготовке программы все мы сомневались, не получится ли, что, предоставляя ему трибуну, мы лишь помогаем ему попасть в мейнстрим (если такой концепт все еще существует в принципе).
Сначала будущее наступило в России
Я размышлял о бесконечных трансформациях понятий «многих» и «народа», об отчаянных попытках на ходу заново изобрести идентичность, когда меня вдруг осенило – ведь я все это уже «проходил» в России, где жил с 2001 по 2010 год.
«Сначала я изобрел идею путинского большинства – а затем оно действительно появилось!» – рассказывал мне в Москве Глеб Павловский, один из первых политтехнологов президента Путина.
Я уехал из России в 2010 году, потому что был измотан жизнью в системе, в которой (как я написал в своей предыдущей книге, бессознательно цитируя Ханну Арендт) «правды нет, возможно все». Это были сравнительно «вегетарианские» времена до вторжения в Украину (хотя его предвещали вторжение в Грузию и ковровые бомбардировки Чечни). Но это уже был мир, в котором картинка вытеснила смысл, и только внутреннее чутье могло помочь пробиться через туман дезинформации. Я вернулся в Лондон, наивно говоря себе, что хочу жить в мире, где «слова имеют смысл» и где каждый факт не отвергается с торжествующим цинизмом, как «простой пиар» или «информационная война».
Россия казалась страной, неспособной примириться с самой собой после проигрыша в холодной войне, да и после других травм XX века. Я думал, что это страна вечного цирка, курьез, замаринованный в соку собственной агонии.
Затем наступил переломный 2016 год, и все снова перевернулось с ног на голову. Казалось, что вокруг меня вновь моя знакомая Россия: тут и радикальный релятивизм, утверждающий, что истина непостижима; и мерзкая ностальгия, в которой растворяется будущее; конспирология заменяет идеологию, факты приравниваются к выдумке, а разговоры скатываются до взаимных обвинений в том, что каждый аргумент в споре – орудие информационной войны… И еще это ощущение, что под ногами нет опоры, все куда-то плывет и движется.
Но распространились не только нравы, которые я наблюдал в России, – сама страна превратилась в хедлайнера новостей: вторжение в Украину, бомбардировки Сирии, хакерские атаки компьютеров в США, подкуп Европы… Путин ухмылялся мне с каждой обложки, смотрел с экранов вечерних новостей и, казалось, говорил: «Думал, убежишь?»
Несмотря на все мои усилия покинуть Россию, она преследовала меня. Что если я ошибался все годы, пока там жил? Что если Россия – не исторический курьез, зашедший в тупик? И вдруг она была предвестником того, что случится с Западом?
Задумавшись обо всем этом, я снова обратился к России, к корням системы, которые видел своими глазами, живя в Москве, и к