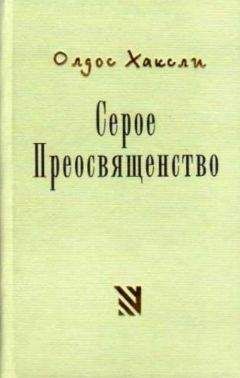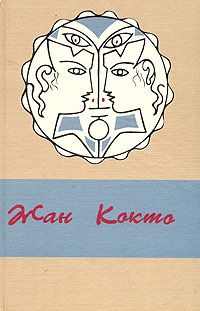Среди тысячи шестисот с лишним дам, числящихся в каталоге побед Дон Жуана, без сомнения, было несколько, чья благосклонность побуждала героя обратиться потом к врачу. Но с шанкром ли, без шанкра, а сам факт завоевания был предметом гордости и заслуживал быть занесенным в лепорелловскую хронику побед. История стран пишется в том же духе.
Это — что касается первого вопроса, о последствиях политики, в разработке и осуществлении которой участвовал отец Жозеф. Теперь об этических вопросах. В этическом плане положение отца Жозефа было не такое, как у обыкновенного политика. Не такое потому, что, в отличие от обыкновенных политиков, он стремился к святости, был созерцателем, практически осведомленным в мистицизме, человеком, знавшим природу духовной религии и действительно продвинувшимся по «пути совершенства» к единению с Богом. Теологи согласны в том, что все христиане призваны к единению с Богом, но лишь немногие готовы сделать выбор, позволяющий им стать избранными. Отец Жозеф был одним из этих немногих. Но, сделав выбор, на этом не остановился и через сколько-то лет сделал другой: заняться политикой и стать сотрудником Ришелье. Как мы уже видели, намерением отца Жозефа было сочетать политическую деятельность с созерцанием, делать то, что требовала государственная политика, и в процессе делания уничтожать это в воле Божьей. Однако на практике то, что приходилось делать, оказалось неуничтожимым, и частью своей души отец Жозеф горько сожалел о том, что ввязался в политику. Но была и другая часть — жаждавшая действия, требовавшая героических свершений во славу Божию. Оглядываясь на свою жизнь, отец Жозеф — созерцатель, чувствовал, что поступил неправедно или, по крайней мере, очень неразумно, вмешавшись в политику. Но если бы он так не поступил, если бы остался проповедником, учителем и религиозным реформатором, то, возможно, до конца своих дней сознавал бы, что поступил неправильно, пренебрегши возможностью исполнить волю Божью в большом мире международной политики — gesta Dei per Francos.
Дилемма отца Жозефа стоит перед всяким духовным человеком и созерцателем, всяким, кто хочет поклоняться Богу теоцентрически и ради Него самого, всяким, кто пытается соблюдать заповеди, чтобы стать совершенным, как совершенен их Отец на небесах. Чтобы мыслить об этой дилемме ясно, мы прежде должны научиться ясно мыслить о некоторых проблемах более общего характера. Католические богословы этим усиленно занимались, и, пожелай воспользоваться их усилиями отец Жозеф, он нашел бы в учениях своих предшественников и современников много материала для надежной философии действия и надежной социологии созерцания. То, что он не воспользовался ими, обусловлено особенностями его темперамента и талантов, но прежде всего его горячим бескорыстным радением о французской монархии. С пути совершенства его сманило самое утонченное из искушений — соблазн верности и самопожертвования, но — верности делу не такому высокому, как высшее благо, и самопожертвования — во имя чего-то, что меньше Бога.
Для начала рассмотрим теорию действия, как она излагалась в теоретических писаниях, доступных отцу Жозефу. Прежде всего, мы должны помнить, что когда богословы говорят о деятельной жизни, противопоставляя ее созерцательной, они имеют в виду не то, что понимают под ней современные писатели не богословы. Для нас «деятельная жизнь» — это жизнь, которую ведут герои фильмов, руководители бизнеса, военные корреспонденты, члены правительства и так далее. В глазах богословов — это лишь мирская жизнь, проживаемая людьми, духовно не обновленными, не сделавшими ничего или почти ничего, чтобы избавиться в себе от ветхого Адама. Но в глазах богословов деятельная жизнь — труд Божий. Быть деятельным, значит следовать путем Марфы, которая посвятила себя обслуживанию материальных нужд учителя, тогда как Мария (во всей мистической литературе она есть образец созерцателя) сидела и слушала Его слова. Когда отец Жозеф выбрал жизнь политика, он очень хорошо понимал, что это не деятельная жизнь в теологическом смысле, что путь Ришелье не тождествен пути Марфы. Действительно, Франция была, ex hypothesi[80] и почти по определению, орудием Божьего Промысла. Следовательно, всякая политика, направленная на возвышение Франции, должна быть в сущности благой. Но хотя ее сущность может быть благой и вполне согласной с Божьей волей, акциденции ее часто были сомнительными. Тут вступала в действие практика активного уничтожения. С ее помощью отец Жозеф надеялся стерилизовать свои довольно грязные мероприятия и сделать их безвредными, по крайней мере для себя.
В наши дни большинство людей принимают как само собой разумеющееся утверждение прагматистов, что целью мысли является действие. Философия, которую изучал и усвоил отец Жозеф, придерживается противоположной позиции. Здесь созерцание является целью, а действие (включая дискурсивное мышление) ценно лишь как путь к узрению Бога. По словам св. Фомы Аквинского, «действие должно быть тем, что прибавляется к жизни в молитве, а не тем, что от нее отнимается». Для человека от мира сего это утверждение почти лишено смысла. Для созерцателя, сосредоточенного на духовном, на Царствии Божием, а не на самости, это — аксиома. Отправляясь от этого фундаментального принципа теоцентрической религии, практические мистики подвергли критическому анализу всю идею действия и установили правила, которыми должен руководствоваться тот, кто желает следовать мистическим путем к узрению Бога. Одна из лучших формулировок традиционной мистической доктрины касательно действия принадлежит современнику отца Жозефа — Луи Лаллеману Лаллеман был иезуитом, которому, несмотря на антимистические тенденции, господствовавшие в его ордене, было разрешено приобщать доверенных его попечению людей к весьма передовой (но вполне ортодоксальной) разновидности спиритуализма.
Когда мы предпринимаем какое-то действие, утверждает отец Лаллеман, мы должны брать за образец самого Бога, который творит и поддерживает мир, никоим образом не изменяя своей сущности. Но мы не можем этого сделать, пока не обучимся практике правильного созерцания и не будем постоянно сознавать себя в присутствии Бога. И то, и другое трудно, особенно второе, ибо доступно лишь тем, кто очень далеко продвинулся по пути совершенства. Что же до начинающих, то даже добрые дела могут отвлечь душу от Бога. «Если мы далеко ушли в молитве, — говорит Лаллеман, — мы много отдадим действию; если мы средне продвинулись во внутренней жизни, мы должны отдавать себя внешней жизни лишь умеренно; если духовного начала в нас совсем немного, мы ничего не должны отдавать внешнему, покуда того не потребует наш обет послушания». К уже приведенным причинам такого предписания мы можем добавить другие, чисто утилитарного свойства. Опыт и наблюдения показывают, что действия, предпринятые обычными нераскаявшимися людьми, погруженными в свою самость и духовно не прозревшими, редко приносят большое благо. За одно поколение до Лаллемана св. Хуан де ла Крус суммировал всю проблему в одном вопросе и ответе. Те, кто, очертя голову, устремляются в добрые дела, не приобретя через созерцание способность действовать хорошо, — что они совершают? «Росо mas que nada, у a veces nada, у aun a veces dano» (немногим больше, чем ничего, иногда совсем ничего, а иногда даже приносят вред). Одна причина того, что дорога в ад вымощена благими намерениями, уже упомянута, и к ней — невозможности предвидеть последствия действий — мы должны теперь добавить другую: принципиально неудовлетворительный характер действий, совершаемых обычными, средними, духовно не обновленными мужчинами и женщинами. Раз так, Лаллеман рекомендует по возможности минимальную внешнюю деятельность до тех пор, пока созерцанием и неукоснительной практикой пребывания в присутствии Бога душа не научится отдавать себя Ему полностью. Те, кто недалеко ушел по пути к единению, «не должны выходить из себя для службы ближнему, иначе как для пробы и эксперимента. Мы должны быть подобны тем охотничьим собакам, которых еще не спустили со сворки. Когда мы придем через созерцание к обладанию Богом, мы сможем дать больше воли нашему рвению». Внешняя деятельность не вызывает перерывов в молитве искусных, наоборот, она есть средство приближения их к реальности. Те, для кого она не является таким средством, должны по мере возможности воздерживаться от деятельности. Отец Лаллеман вновь обосновывает свою мысль ссылкой на опыт и чисто утилитарным соображением о последствиях. Во всем, что касается спасения душ и улучшения качества человеческих мыслей, чувств и поведения, «человек молитвы достигнет большего за один год, чем другой — за всю свою жизнь».
То, что верно в отношении благочестивых дел, верно a fortiori и в отношении чисто мирской деятельности, особенно когда эта деятельность масштабна, предполагает сотрудничество с большим числом людей, в разной степени не просвещенных. Добро есть продукт этической и духовной искушенности индивидуумов; массовое производство его невозможно. Все католические богословы отлично сознавали эту истину, и Церковь действовала соответственно с самых первых дней. Монашеские ордена — и, прежде всего, те, к которым принадлежал сам отец Жозеф, — были живой демонстрацией традиционной доктрины действия. Эта доктрина утверждала, что добро выше среднего качества и в количествах выше среднего может быть реализовано только в малом — посвятившими себя этому и специально подготовленными индивидуумами. В своей работе реформатора и духовного наставника отец Жозеф всегда исходил из этого принципа. Искусству умной молитвы он обучал только отдельных людей и маленькие группы. Кальварианский устав предписывался как образ жизни лишь немногим из монахинь Фонтевро — орден в целом был слишком велик, чтобы реализовать то специфическое духовное добро, ради которого проводилась реформа. И все же, несмотря на свое теоретическое и экспериментальное знание того, что массовое производство добра в духовно не преображенном обществе невозможно, отец Жозеф занялся международной политикой в убеждении, что не только выполняет волю Божию, но и что война, которую он всеми силами пытался продлить и расширить, принесет большие и длительные материальные и духовные блага. Он знал, что бесполезно заставлять добрых женщин Фонтевро быть более добродетельными и духовными, чем они того хотят; но при этом верил, что активное французское вмешательство в Тридцатилетнюю войну приведет к «новому Золотому веку». Эта странная непоследовательность была, как мы уже не раз говорили, по большей части, порождением воли — воли, которую, казалось отцу Жозефу, он сумел подчинить Божьей воле, хотя во многих отношениях она оставалась непреображенной волей естественного человека. Отчасти, однако, эта непоследовательность объяснялась интеллектуальными причинами, а именно тем, что он воспринял некую теорию Провидения, широко распространенную в Церкви и не согласовывавшуюся с очерченными выше теориями действия и добра. Согласно этой теории, вся история провиденциальна, и ее нескончаемый список преступлений и безумств есть выражение божественной воли. Поскольку самые выдающиеся преступления и безумства в истории совершаются по приказу правительств, эти правительства и государства, которыми они управляют, — также воплощения Божьей воли. Приняв эту провиденциальную теорию истории и государства за истину, отец Жозеф имел все основания считать, что Тридцатилетняя война — дело хорошее, что политика, благодаря которой распространилось людоедство и всеобщей стала практика пыток и смертоубийства, вполне согласна с Божьей волей, если только она выгодна Франции. Последнее было необходимым условием, ибо как политик, верящий в провиденциальность истории, он с полным правом мог считать, что Бог осуществляет свои gesta per Francos, хотя как политический реформатор и духовный руководитель отлично понимал, что дела Божьи исполняются не массой франков, но одним франком здесь, другим — там, порой даже британцем, таким как Бенет Фитч, или испанкой, например, св. Терезой.