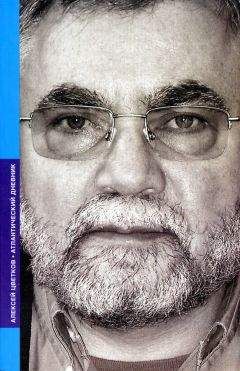Случай Мирского, впрочем, все же исключителен потому, что он был в числе самых естественных и неизбежных жертв режима, и никак не мог этого не понимать: потомок одного из старейших аристократических родов России, сын царского министра, пусть и скомпрометированного либерализмом, но тем сильнее виноватого в глазах советской власти, ненавидевшей либералов еще лютее, чем реакционеров победоносцевского толка. Его собственная политическая активность в первый период эмиграции вовсе не украшала биографии с советской точки зрения, и поэтому на ее отбеливание уходили немалые усилия, в конечном счете обреченные на тщетность.
Все эти пять лет на свободе, если слово «свобода» здесь вообще уместно, Дмитрий Мирский занимался тем, чем вынужден был заниматься каждый из возвращенцев просто для того, чтобы сохранить надежду на завтрашний день: чернить собственное прошлое и всех, кто был с ним связан, предавать все, что подлежало предательству, и возводить поклепы на всех, чье имя мог вспомнить. Тут как раз приходят на ум все эти «бедные» Томасы и Олдосы. В 1935 году Мирский опубликовал книгу «Интеллигенция Великобритании», в которой свел подневольные счеты с бывшими друзьями. Здесь все эти Олдосы и Лоуренсы были зачислены в эстетствующую мелкую буржуазию. Но и в этой книге, сквозь горькие строки наемника, временами прорывается истинное знание предмета и неподдельное восхищение: Вирджинию Вулф, пророчицу его гибели, Мирский называет «бесспорно крупным художником», а ее творческий метод – «эстетизацией метода, использованного Чеховым в „Трех сестрах“». Это было последнее положительное упоминание о Вулф на многие десятилетия вперед. В скором времени имена всех этих Олдосов и Томасов были полностью зачеркнуты, а британская интеллигенция – отменена. Неудобство существования Мирского при таком порядке вещей заключалось в том, что он слишком много знал, и это знание надлежало ликвидировать. С точки зрения Сталина Мирского следовало устранить, даже если бы 37-го года не было.
Самой позорной дистанцией на этом пути к плахе было участие в работе над известным коллективным литературным творением, прославляющим строительство Беломорско-Балтийского канала – вместе с Горьким и Александром Родченко, автором художественного оформления, чьими фотографиями на эту тему недавно восторгался просвещенный Нью-Йорк. Поведение Дмитрия Мирского видится куда более простительным, если вспомнить восторженный отзыв соратницы Бернарда Шоу Беатрис Уэбб о «великом инженерном подвиге ГПУ» и о «триумфе человеческого возрождения».
Последняя работа Мирского, «Антология современной английской поэзии», вышла в свет уже после его ареста – и без его имени.
Естественно, казалось бы, сравнить судьбу Дмитрия Мирского с судьбой другого возвращенца, «красного графа» Алексея Николаевича Толстого. Но это сравнение рассыпается под руками: аристократизм Толстого был дутым и не выдерживал никакого сравнения с родословной Рюриковича, а его бесспорный литературный дар, на фоне достаточно гибкой совести, был с успехом поставлен на службу режиму. Козырем Мирского была блестящая эрудиция и острый ум, столь печально изменивший ему в 32-м году: он прибыл в Советскую Россию с набором тончайших и никому не нужных инструментов, как какой-нибудь ювелир на строительство того же Беломорканала.
Куда благодарнее сравнить его с Владимиром Набоковым, не возвратившимся и не думавшим возвращаться, человеком, встроившим ностальгию в свое творчество, творцом очарованной России собственного детства, которой никогда не было на свете. Набоков, подобно Мирскому, был отпрыском сановного либерала, но его высокомерие выдает некий дефицит истинного аристократизма, необходимость постоянной позы, в которой князь Святополк-Мирский не видел нужды. У Мирского не было в багаже России Набокова, и ему пришлось в конечном счете вернуться в единственную, которая существовала на самом деле.
Осталась книга, чьи читатели живут преимущественно на Западе и которая по сей день не может преподать России заключенного в ней урока. Природный аристократизм автора позволяет ему подняться над предрассудками современников и потомков и воздать каждому по заслугам, не источая сахарной слюны подобострастия, которой Россия, еще с советских времен и по сей день, поливает свои реальные и мнимые ценности, будь то юбилейный Пушкин Юрия Лужкова или сталинский летописец Эйзенштейн.
...
К его чести, в отличие от столь многих других интеллектуалов, он никогда не строил из себя человека из народа и не приписывал ему никакой чудодейственной мудрости. Праведная многострадальность и терпеливость, упоминаемые с тошнотворной регулярностью в качестве верховных добродетелей русского народа, как его собственными напуганными властителями, так и завороженными иностранцами, были для Мирского достойны презрения. Он называл Платона Каратаева, крестьянского «гуру» из «Войны и мира», «невыносимым»: «Это – абстракция, миф, существо иных измерений и законов, чем все прочие в романе». Единственным человеком бесспорно скромного социального происхождения, с которым Мирский имел дело иначе, чем со слугой или солдатом, был, прежде чем он встал в ряды пролетарской интеллигенции СССР лет пятнадцать спустя после революции, Максим Горький… Один из немногих представителей интеллигенции, действительно знавших, о чем тут идет речь, Горький от души презирал подобных людей, вместе со всей «темной» массой российского крестьянства.
Русская литература предстает на страницах Мирского без розового флера, со всеми зазубринами и случайными огрехами, и величия ей от этого не убавляется, оно лишь прирастает подлинностью. Как знать, в какую сторону повернулась бы сегодня наша мысль, если бы эти слова о Платоне Каратаеве прививались нам с детства. Может быть, в сегодняшнем патриотизме было бы куда меньше инстинктивного холопства, чем тому способствуют дурно переваренные толстовство и достоевщина.
Мирский, в отличие от Алексея Толстого и Набокова, не был беллетристом, автором выдуманных миров, и, может быть, именно это закрыло для него оба пути к бегству, изобретенные каждым из них в соответствии с собственными наклонностями. Ностальгия была неизвестна дореволюционной России – скорее напротив, Пушкин, которому так и не выдали паспорта, страдал ее прямой противоположностью. Ностальгия приняла эпидемические масштабы в средних кругах первой русской эмиграции – средних в любом измерении, пораженных исторической бестолковостью и растерянностью и явивших геологические пласты профессиональной бесполезности. Эмиграция с ее ностальгией стала задним числом одним из лучших доказательств если не справедливости, то, по крайней мере, неизбежности большевизма. Каким образом этот микроб поразил один из самых ясных умов диаспоры, для меня навсегда останется загадкой. Мы стараемся жить каждый по-своему, но оступаемся и гибнем одинаково.
«Вот каким образом товарищ князь Мирский, аристократ среди критиков, обрел вечный покой, – пишет в заключение своего труда Джералд Смит. – Когда-нибудь в будущем, быть может, в его собственной стране найдут способ почтить его память достойным образом. До тех пор пусть эта книга послужит временным надгробным камнем».
Этот временный камень будет прочнее и долговечнее, если книгу Смита озаботятся перевести на русский язык, но надежд на это, при нынешнем культурно-финансовом раскладе, не так уж много, по крайней мере в ближайшей перспективе. А до тех пор не только в биографии Дмитрия Святополк-Мирского, но и в истории страны останется наспех заколоченная досками дыра, перекрытая тропа, выбрав которую мы могли бы оказаться в совершенно ином пространстве. Мирский показал нам, что свобода – это личное свойство человека, а когда он выбирает кандалы, его судьба становится судьбой страны. Страна не становится богаче, но человек – неизбежно беднее. Россия отвергла талант сына точно так же, как за тридцать лет до этого отвергла талант отца.
Наших мертвецов по-прежнему хоронят чужие, мы все еще не хозяева собственному кладбищу, и мавзолей ему не замена. Эту назойливую доброту иностранцев можно до поры обезвредить привычным поношением и поиском корыстных мотивов – если не слишком присматриваться к собственным.
В годы холодной войны история была предсказуемой: капитаны государственных кораблей имели подробные лоции, то есть доктрины поведения в мире, разделенном на два лагеря. О советской доктрине рассказывать незачем, а что касается Запада, то ему проложила курс статья американского дипломата Джорджа Кеннана, опубликованная в 1947 году и определившая правильное поведение в отношении коммунистического лагеря как «сдерживание».
На исходе 80-х годов XX века противостоянию пришел конец, а вместе с ним исчезла и царившая до тех пор ясность. Речь пошла о некоем «новом миропорядке», в самом приятном смысле, а политолог Фрэнсис Фукуяма даже опубликовал статью об окончательной и бесповоротной победе либерализма в мировом масштабе. События очень скоро показали всю смехотворность такого прогноза, но Фукуяма все-таки переиздал свою статью, раздув ее до размеров книги – денежные идеи на дороге не валяются.