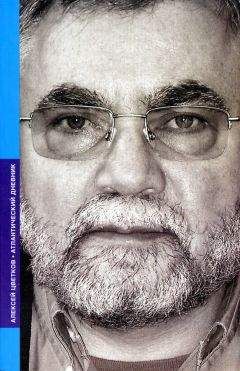Самюэль Хантингтон видит в Югославии точку контакта трех разных цивилизаций. В таких точках, согласно его теории, разгораются контактные конфликты, которые могут переходить в контактные войны. Предельной ситуацией может быть втягивание в контактную войну двух или более «сердцевинных» стран различных цивилизаций – война в таком случае становится мировой. Впрочем, не все цивилизации имеют сердцевинные страны – ее нет, например, у сегодняшней исламской цивилизации.
По мнению Хантингтона, события в Югославии развивались строго по сценарию контактного конфликта. Когда католическая Хорватия провозгласила свою независимость, ее сразу же поддержала католическая Бавария, а под ее давлением – вся Германия и Европейский союз, предоставившие ей дипломатическое признание. Россия, в свою очередь, не могла не отреагировать и встала на сторону православной Сербии. Единственной стороной, которая не обрела себе поддержки в Европе, были, по очевидным для Хантингтона причинам, боснийцы-мусульмане, но им стали оказывать помощь мусульманские страны – Турция, Иран и Саудовская Аравия. В ходе последующего конфликта все три стороны, несмотря на эмбарго ООН, получали оружие и стратегические товары от собратьев по цивилизации: хорваты – от Германии, сербы – от России и Украины, а мусульмане – от Турции и Ирана.
Правда, Хантингтон все-таки вскользь признает, что Соединенные Штаты, сердцевинная держава западной цивилизации, почему-то оказали поддержку мусульманам, но он пытается всячески преуменьшить масштабы этой помощи.
Все это, конечно, насилие над правдой – думаю, что с моим аргументом согласятся многие, включая сербских и русских патриотов православного образца. Сочувствие боснийским мусульманам в Европе и США было весьма широким и распространенным. Тот факт, что европейские правительства медлили с прямым применением военной силы и в конечном счете спрятались за спину США, легко объясняется сиюминутными политическими соображениями, без привлечения глобальных аргументов.
Выкладки Хантингтона ложны и пристрастны изначально, потому что теория для него важнее, чем грубые факты. Англичанин или немец вряд ли нашел бы в быте боснийской деревни много общих черт со своим собственным, но он не смог бы отличить его от быта соседней хорватской деревни, а русские – от сербской. Именно эта общность жизненного уклада, в котором религия играла самую второстепенную роль, привела к такому этническому смешению в Боснии, обернувшемуся во время войны всеобщей трагедией. Тот факт, что религия стала гораздо более определяющим и мобилизующим фактором в годы войны, тоже легко объясним: в конце концов, даже Хантингтону не приходит в голову объяснить затяжной и кровавый конфликт католиков с протестантами в Ольстере столкновением цивилизаций.
Подобного рода натяжками книга Хантингтона изобилует даже при условии, что мы не будем заглядывать за пределы 1997 года, когда она была опубликована. Но эта дальнейшая история совершенно беспощадна к выкладкам теоретика. Хантингтону еще не было известно развитие конфликта в Косове, где Запад практически безоговорочно встал на сторону албанцев-мусульман, и объяснять это гипотетической ненавистью к православным, как пытаются некоторые, просто нелепо: христиане в любом случае ближе по культуре Западу, чем мусульмане, – для того, чтобы это понять, не надо воспарять в теоретические сферы, достаточно бытовых наблюдений.
Еще более абсурдными предстают те страницы книги, которые посвящены отношениям Запада с японской цивилизацией, которую Хантингтон вполне справедливо не отождествляет с китайской. Теперь уже совершенно очевидно, что особенности японского капитализма, приведшие в свое время к обострению отношений Японии с Америкой и Европой, вовсе не были некоей внутренней аксиомой цивилизации, не поддающейся имитации. Экономика Японии переживает многолетний спад, который в пору работы Хантингтона над книгой еще окончательно не оформился, и нам с сегодняшней позиции вполне понятно, что вчерашний конфликт был преимущественно экономическим, хотя в быту порой приобретал этнические и культурные признаки. Сейчас практически невозможно читать вышедшие чуть ли не вчера книги о грядущей японской опасности, они производят впечатление, близкое к комическому, и этот эффект не щадит и книги Хантингтона. Точно так же он не мог разглядеть из своего недалекого прошлого предстоящий азиатский экономический кризис.
Историки и политологи – не пророки. Но коль скоро книга пишется с явным намерением предначертать курс истории на ближайшие годы, нельзя не отметить эти просчеты и не усомниться в пользе такой книги.
Впрочем, есть в ней и прямое передергивание, для изобличения которого не надо забегать на четыре года в будущее. Я уже упоминал о том, что в книге к восьми цивилизациям исходной статьи почему-то добавлена девятая – буддийская, хотя страны с преобладанием буддизма имеют очень мало сходства друг с другом, а многие уже розданы самим Хантингтоном другим цивилизациям – та же Япония или Южная Корея и Таиланд, которые отнесены к китайской. В чем причина такой поправки? Мне она совершенно понятна: один из самых продолжительных и ожесточенных конфликтов в Южной Азии, в Шри-Ланке, Хантингтону трудно поместить внутрь единой цивилизации, и поэтому он проводит там контактную черту: тамилы – индуисты, сингалезцы – буддисты.
Но всех концов все равно не подоткнешь. Геноцид в Руанде был совершен одним африканским племенем по отношению к другому, их не разделяет ни религия, ни язык, и они столетиями жили бок о бок и вперемешку. Россия помогала мусульманской Абхазии в ее войне против православной Грузии. Армению, которая исторически тяготеет к России, Хантингтон упрямо называет православной, а это уже просто невежество. В Южной Корее и на Тайване все шире распространяется христианство, никак не укладывающееся в китайскую цивилизацию, а заодно и демократия – считать ли это нарушением культурной дисциплины?
В яростных российских отзывах на статью Хантингтона, попавшихся мне под руку, он клеймится как идеолог западного империализма и мондиализма, но с либеральной западной точки зрения его книгу трудно читать без возмущения и даже гадливости, поскольку из нее совершенно исключен нравственный элемент. Такое моральное уравнивание цивилизаций, в духе так называемой политологии «реализма» образца Киссинджера или Бжезинского, производит тем более странное впечатление, что Хантингтон попутно сетует на упадок западной цивилизации и призывает ее к мобилизации вокруг своих традиционных ценностей. Каких? Если либерализм изначально исключен из круга этих ценностей, то остается лишь самая совершенная в человеческой истории военная машина и идеология геноцида. Русские критики в запале борьбы с Западом не разглядели в Хантингтоне родства собственному «человеку с молотком» – Льву Гумилеву с его освобожденной от химеры совести «пассионарностью».
Думаю, что таких историков, как Тойнби или Шпенглер, будут читать и в будущем – несмотря на обветшалость их тезисов, в их книгах есть немало истинных прозрений, и, кроме того, они остаются нашими единомышленниками, приверженцами либеральных ценностей. Что же касается книги Самюэля Хантингтона, то она представляет собой наспех сколоченное, неряшливое и безнравственное пособие для вооруженных циников. Чем скорее мы о ней забудем, тем лучше для нас всех, для всех цивилизаций.
Коровы не летают, а книги о философии не попадают в списки бестселлеров – это примеры суждений, справедливость которых кажется очевидной. Впрочем, некоторые из числа тех, о ком я хочу рассказать, настаивали на том, что безупречных и непогрешимых истин не бывает. Из чего уже вполне понятно, что речь пойдет не о коровах, а о философии, точнее – о философах.
Накануне Гражданской войны интеллектуальная ось Соединенных Штатов проходила через Новую Англию, Бостон и его окрестности, в первую очередь – через Кембридж с его Гарвардским университетом. Некоторые из тамошних жителей всерьез считали Бостон мировым законодателем мнений – ошибка, с нашей точки зрения, комическая, но вполне простительная и свойственная любой стране в период формирования культурного национализма. Некоторые из светил этой предвоенной культуры действительно получили широкую известность за пределами США, в первую очередь представители школы так называемого «трансцендентализма» – Ралф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо. Но, как правило, человек первой половины XIX века, ищущий знакомства с новейшими достижениями философской мысли, считал своим долгом обратиться к трудам немецких, английских или шотландских мыслителей, а о Соединенных Штатах думал в последнюю очередь.
Духовная атмосфера этой новоанглийской культуры еще в значительной степени определялась религией. На смену суровому кальвинизму массачусетских пуритан уже пришло куда более либеральное унитарианство, но в целом религия по-прежнему оставалась организующим стержнем любого мировоззрения, цементом, гарантирующим единство мира и отражающего этот мир знания. Именно религия в конечном счете привела новоанглийскую интеллигенцию к аболиционизму, идее нравственной недопустимости рабства и необходимости активной борьбы с ним. Эта борьба вылилась в самую кровопролитную войну столетия и разрушила не только рабовладельческий уклад Юга, но и духовный уклад Севера, на обломках которого плеяда замечательных мыслителей создала новое американское мировоззрение. Вот как характеризует этот период Луис Менанд, автор вышедшей в прошлом году книги «Метафизический клуб»: