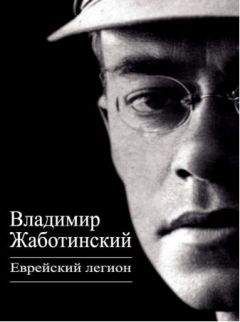«Падре», верхом на Коган Иксе, то уезжает вперед, то возвращается: надзирает, чтобы пленных не обижали или чтобы они сами не обижали друг друга.
Тащимся, тащимся, и все думаем одно и то же. Неделю тому назад эти люди были здесь ужасом и красою земли. И ведь только случайно мы их ведем, а не наоборот. Много я передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом и дуэль аэропланов в воздухе, и gueules cassees и немецкие налеты на Лондон — солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра[*]: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно, но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унизить, опозорить целый народ. Это горше всего; и это монополия человека. Живал я и в Берлине, и в Вене, и в Константинополе, видел эти самые обломки образа и подобия Господня, как они работали, как они смеялись, как гуляли со своими барышнями по Пратеру и курили наргиле в переулках Галаты. Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю эту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит.
Слово о полку. Автобиография.
Что же, нет никакой надежды? Есть ли способ избавиться от войн, от убийств, от мучений? Жаботинский не полагал, что найти решение легко и просто. Он не верил в надежность пактов о ненападении и конвенций о сокращении вооружений. Единственная надежная гарантия — это сделать все возможное, чтобы устранить причины возникновения войны:
Народы не начинают войн просто так и безо всякой причины. Ушли безвозвратно те времена, когда король мог объявить войну из-за того, что обидели его фаворитку. Вообще-то неизвестно, были ли они когда-нибудь такие времена. Сегодня мы видим, что войны сопровождаются некоторым воодушевлением масс, общественным энтузиазмом. Это свидетельство того, что данная война ведется ради разрешения проблем, волнующих хотя бы часть общества. Но ведь эти проблемы можно разрешить иначе. Именно это и может помочь, а не конвенция, ограничивающая артиллерию Уругвая тридцатью девятью пушками.
И самого человека надо перевоспитать. И это вовсе не невозможно. Хрестоматийный пример: англичане, народ вовсе не трусливый, давным-давно прекратили моду на дуэли. Надо изменить природу человека, а не надеяться на конвенции, остающиеся на бумаге.
«Нелегкий путь», «Хайнт», 4.4.1928.
Разумеется, не следует, вместе с тем, упускать любую возможность для реального сокращения вооружений. Даже если это не избавит от войн, по крайней мере, будет способствовать росту благосостояния людей:
Я настаиваю: наш старый, «прогнивший» культурный мир дойдет в борьбе до первых проблесков светлого будущего и в деле разоружения. И именно в скором будущем. (Тут необходимо некоторое пояснение. Разоружение — частичное или полное — вовсе не гарантирует мира. Эти два понятия никак не связаны; войны имели место и до изобретения пороха и, боюсь, будут иметь место и после демонтажа танков и уничтожения химического оружия. Войны происходят не из-за того, что в мире имеются пушки, а потому, что происходят столкновения интересов наций и не находится великой державы, выполняющей роль мирового жандарма, которая своей силой повлияла бы на противоборствующие стороны и заставила бы их прекратить резню. Вопрос мира — проблема абсолютно отдельная, и ее невозможно разрешить разоружением). Но само по себе разоружение — жизненно важный вопрос. Не для «дела мира», к которому оно не имеет прямого отношения, а для экономического развития наций. При всей силе нынешнего кризиса десятки государств могли бы немедленно излечить свои хромающие бюджеты и даже превратить их в «процветающие», если бы хотя бы наполовину сократили свои расходы на вооружение. Это так же, как если бы мне или вам объявили: «С завтрашнего дня вы ничего не платите за квартиру».— Шуточное ли дело!
Очень жаль, что в сознании людей связались эти две вещи — разоружение и пацифизм. Пацифизму-то это не вредит, а вот разоружению сильно мешает. Мешает потому, что у каждого начинания есть противодействие, а оно стократ возрастает, когда к начинанию неоправданно «пристегивают» вещи, его не касающиеся...
Пацифизм — это, возможно, самая прекрасная из еврейских идей. Но утверждать, что у нее есть шансы на легкий успех,— без основательной переделки сознания людей, без кардинального решения наболевших проблем этого мира, а просто так — сокращением военных бюджетов,— утверждать так неразумно и бесполезно.
Совсем другое дело — разоружение. Это важнейшее дело. И давно осуществимое. Государства стремятся, просто рвутся к нему. Надо только всегда представлять его чисто экономическим, выгодным делом, безо всякой «привязки» к посторонним вопросам. Смысл разоружения — в решительном сокращении военных бюджетов. Не более и не менее того. И перевод высвободившихся средств на нужды культуры и социального обеспечения. И разве этого мало и надо приплетать сюда еще что-то?
Разумеется, с чисто экономической точки зрения, все далеко не так гладко и просто. Что делать с многотысячной армией, с военной промышленностью? Это вовсе не простые вопросы, но они разрешимы. Миру и даже рабочим, потерявшим заработок, будет гораздо лучше, если прекратят лить пушки — эту мерзость.
«Хрупкая безопасность», «Хайнт», 22.7.1932.
Жаботинский закончил эту статью неким вызовом цивилизованному миру:
Более всего сейчас нужно миру немного приличия, уважения к самому себе. Он должен показать, что он не вечный раб собственных предрассудков и ошибок, порождающих бесконечную цепь новых ошибок. Он должен разорвать цепь, избавиться от дурных привычек. Дайте миру немного уверенности в самом себе — он сможет и найти работу демобилизованным солдатам, и решить проблему сокращения рабочей недели без сокращения заработка, возможно, сможет, наконец, приняться за работу для установления прочного мира. Если бы только он сделал первый шаг и начал строить жизнь согласно нашим человечным установлениям, а не бездумно подчиняться решениям и привычкам этой жизни...
Там же.
«Его «мелодия» выражает наши собственные мысли».
На древний как мир вопрос — о роли личности в истории — Жаботинский не дал своего прямого ответа. Но, кажется, можно «вычислить», к чему он склонялся. В своих ранних записках он вложил в уста вымышленного собеседника вот такой монолог:
— Эти идиоты кричат на всех перекрестках, что роль личности в истории равна нулю. История, дескать, творится сама собою, так называемые вожди — это только ее ставленники и приказчики; если бы не было Юлия Цезаря, нашелся бы какой-нибудь Юний Цезарь, но уж история своего добилась бы, и из-за такого пустяка, из-за такой мелочи, как отсутствие той или иной личности, ничто бы не остановилось и ничто не изменилось бы.
Пусть надо мной смеются сколько угодно, а я верю, что без Руссо французская революция запоздала бы на множество лет, без Наполеона ее влияние ограничилось бы одною Францией, а не распространилось бы так широко по всей Европе, а без Гарибальди Италия до сих пор ждала бы... ждала бы своего Гарибальди. Я понимаю, массы накопляют материал, но строят, но зиждут только вожди, и где нет вождя, там лучший и богатейший материал будет лежать и гнить без пользы.
Идеологические вожди бывают двоякого рода. Одни дают содержание движения, дают ту идею, которую должна будет воплотить в жизнь предстоящая социальная катастрофа. Эта идея, или эти идеи должны соответствовать реальным запросам времени и давать практический выход накопившимся потребностям; тогда они постепенно усваиваются обществом, и содержание будущей революции готово. Но этого мало. Нужна еще самая революция. Новые идеи лежат, как мертвый горючий материал: нужен поджигатель.
Это — второй тип идеологического вождя. Секрет его влияния — не в уме, не в знаниях, не в ясном глазомере, а только в настроении, в темпераменте, во внутреннем огне. Вся повышенная температура эпохи концентрируется в его душе; он горит на глазах у современников и заражает их. Тогда они слепнут и уже не замечают его ошибок, его противоречий, его легкомыслия, невежества, даже шарлатанства: они чувствуют только его огонь, божественный огонь, pantön genêtor. И с этого человека начинается революция, этот человек делает историю, а не те умники, что так зорко прочли общественную нужду и так метко воплотили ее в своих социальных и политических идеалах.
И не самые эти потребности, и не самые эти идеи суть двигатели истории, но только личность вождя, маховое колесо социальной машины, без которого эта машина не сдвинулась бы с мертвой точки.