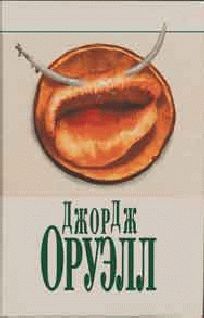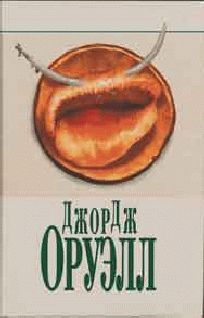Скопидомок
Скопидомок предпочитает, чтобы все было в тесной кучке. Она не разбрасывается, не распыляется, любит видеть свое добро разом. И отнюдь не обязательно, чтобы все было большое, маленькое тоже греет душу, если всегда под рукой. С деньгами она обходится аккуратно и с нежной заботой, никогда не тратит больше десятой части и печется об остальном. Она подкармливает свои капиталы, чтобы те не исхудали. Ни кусочка и капельки без того, чтобы перепало немного и ее деньгам.
Трогательное зрелище, когда Скопидомок повязывает своим денежкам салфетку, перед трапезой. Ей не по душе бумажки-замарашки, чистенькие куда приятней. Хотя и случается, что к ней попадают банкноты, не блещущие новизной. Однако они преображаются под ее заботливой рукой и сияют как в первый день творения. По временам она раскладывает их отдельно, одну подле другой, на столе, будто многочисленное и чинное семейство, и дает им всем имена. Потом пересчитывает, чтобы убедиться, что все на местах, а когда покушают, послушненько и молодцом, укладывает их баиньки.
Скопидомок мелкими шажками семенит от сундука к постели и все носит да носит что-то, там возьмет, сюда положит. Она с удовольствием берется и за тряпку, но пыль пылью, а должно ведь и кой-какое время подкапливаться, со временем и ценность добра прирастает, времени-то надо бы побольше. Скопидомку рисуется, сколько все это будет стоить к ее 80-летию. Она штудирует движение цен и расспрашивает сына, навещающего ее раз в месяц. Уж тут она готовится по всем статьям, все должно быть в порядке и ясности, чтобы ни минуты визита не пропало зря. Ведь сколько всплывает всякого, о чем хотелось бы спросить, а только он за порог — вот уже и другое тут как тут, поэтому лучше обдумать все как следует загодя.
Скопидомок не поддерживает отношений с соседями. Они только стаптывают порог да вынюхивают по всем углам; не успеют войти в комнату, как уже чего-то недостает. Обыщешься потом, пока снова найдешь. Нет, она отнюдь не хочет сказать, будто все кругом воры, совсем нет, но только вещи боятся посторонних и заползают подальше, и не прячься они как следует, кто знает, не украли ли бы их тогда и на самом деле.
Скопидомок получает почту. Она оставляет ее вылежаться несколько дней не вскрывая. Положит такое письмо перед собой на стол и представляет, сколько там, и даже больше. Немного и страшновато тоже, что, может, и меньше, но поскольку такого еще не бывало и все с течением времени дорожает, она может ждать и надеяться, что все-таки — больше.
С той поры как появился на свет, Славощуп знает, что лучше него никого нет. Не исключено, что это ему было известно и раньше, но тогда он еще не мог сказать об этом. Теперь же он речист и старается продемонстрировать, до чего гнусно все устроено в этом мире. Ежедневно пробегает он газету в поисках новых имен. «Да что он здесь делает, этот фрукт, — вскрикивает возмущенно Славощуп, его же здесь еще вчера не было! Э-э, да тут что-то не так: раз, два — и пробрался в газету…» Он зажимает его между большим и указательным пальцем, кладет на зуб и прикусывает. Слов не найти, как поддается эта новая чепуха. «Тьфу, черт, воск! А туда же, в металлы!»
Это не дает Славощупу покоя, он исследует и расследует, он беспристрастен и справедлив, если он что-то и принимает всерьез, так это общественность, его на мякине не проведешь, уж он покажет беспардонному Имени что почем. Раз обнаружив, он с самого первого мгновения следит за каждым движением этого отребья. Тут — сказал что-то не то, там — с орфографией неважно. Да где он и школу-то кончал? Он что, и в самом деле учился в университете или только на словах? Отчего это он никогда не был женат? А что делает в свободное время? И вообще, как же так получилось, что никто о нем до сих пор и слыхом не слыхивал? Мир не вчера родился, и где же это был он, а? Если стар, то что-то долгонько собирался, если молод — пусть сперва пеленки просушит. Славощуп справляется во всех имеющихся энциклопедиях и, к своему полному удовлетворению, нигде не находит подопечного.
Славощуп, можно сказать, прямо-таки живет с этим авантюристом, он беспрестанно говорит о нем и видит его во сне. Ему не по себе: о, этот докучный, этот преследователь. И он упрямо сопротивляется, не желая представить полную характеристику на этого прохвоста. Когда он приходит домой и хочет наконец отдохнуть, то ставит его в сторонке, где-нибудь в углу комнаты, говорит «место!» и грозит для убедительности плеткой. Однако это хитрющее Новое Имя терпеливо и ждет своего часа. Оно распространяет вокруг себя странный запах, который, когда Славощуп спит, резко бьет ему в нос.
Любитель Красот — некоторые кратко называют его Красо-люб — в погоне за всем, что только существовало, существует и будет существовать на свете прекрасного, и находит это во дворцах, музеях, святилищах, церквах и пещерах. Его нисколько не смущает, что кое-что из этого, с давних пор уже слывшее прекрасным, успело тем временем несколько тронуться, для него оно остается таким, каким было всегда, пусть даже новые красоты все время добавляются к прежним, каждая — сама по себе, ни одна не исключает другой, каждая ждет от него, чтобы он в благоговейном восхищении остановился перед нею и любовался. На него стоит посмотреть перед «Сикстинской мадонной» или перед «Обнаженной махой» — как он заходит с разных сторон, как останавливается на различном расстоянии, то надолго, то на несколько кратких мгновений, на множество разных ладов, и огорчен, если нет возможности зайти сзади.
Любитель Красот, он же Красолюб, избегает пускаться в рассуждения, чтобы не нарушить своего молитвенного экстаза. Он распахивает все поры тела и души и немеет, он не сравнивает, не хулит и не разбирает по косточкам, не распространяется о временах, периодах, стилях и нравах. Ему нет дела до того, как жилось создателю этого прекрасного, а до того, что тот думал, — и подавно. Всякий — как-нибудь да жил, и абсолютно неинтересно, была ли жизнь трудна, да и не могла она быть слишком тяжкой, иначе не было бы здесь этого прекрасного творения, и одно то уже, что он носил это в себе, было счастьем, из-за которого он достоин зависти, если все эти субъективные мелочи вообще что-нибудь значат.
У самого Красолюба все в полном порядке, лично у него нет никаких особых трудностей: он посещает свои красоты и отдает им все силы и время. Он воздерживается от покупки каких-либо из них, чтобы не стать пристрастным, да к тому же это было бы довольно безнадежной затеей, поскольку большинство красот находится в крепких руках. Деньги, которыми он располагает, предмет неинтересный, он расходует их разумно и аккуратно на свои постоянные поездки. В пути он исчезает, его никогда не встречают в дороге, будто он путешествует под шапкой-невидимкой. Зато он обнаруживается перед красотами, и если кто видел его в Ареццо или в Брера, наверняка снова столкнется с ним в Борободуре или Наре.
Красолюб безобразен, и всякий спешит уклониться от встречи с ним; было бы грубой бестактностью изображать его отталкивающую внешность. Одно то уже, что у него никогда не было носа. Его выпученные глаза, оттопыренные уши и торчащий кадык, его почерневшие гнилые зубы и бьющий изо рта зловонный смрад, его то писклявый, то скрипучий, каркающий голос, его рыхлые, липкие руки… но что в том, что в том — ведь он никому не сует их и с безошибочной уверенностью находит свое место перед прекрасными творениями.
Поспеши-Словечко говорит — будто на коньках бежит, и опережает тех, кто ходят пешком. Слова сыплются у него изо рта, как пустые орехи. Легки, поскольку пусты, но их зато много. На тыщу пустых один с ядром, но и это чистая случайность. Поспеши-Словечко не говорит ничего такого, над чем бы поразмыслил, он говорит до того. Слова рвутся у него не из сердца, а с кончика языка. Да и какая разница, что говорить, стоит только начать. Подмигнув, он дает понять, что еще не все, что он продолжает, затем мигает снова и подмигивает до тех пор, пока другой не потеряет всякую надежду и станет слушать.
Поспеши-Словечко не удосуживается присесть, слишком это долгая канитель, предпочитая резвиться на катках, где светло и гладко и где другие ему подобные второпях любуются им. Темноты он избегает. Газету — проглатывает, читает так, будто сам ее говорит, с тою же быстротой; и вот уж она переходит в его слова, кувырком выкатывается изо рта и вещает о вчерашнем и послезавтрашнем. Время ему не помеха; пока другие бьются и мучаются с этой упрямой штукой, он обгоняет его и оставляет далеко позади, никогда не останавливаясь, чтобы перевести дух. Так что не имеет значения, что за газету он читает; выуживает какую-нибудь из первой попавшейся кучи, годится любая, ни одна не стара, лишь бы другая, ну, а заголовки — те все на одно лицо.