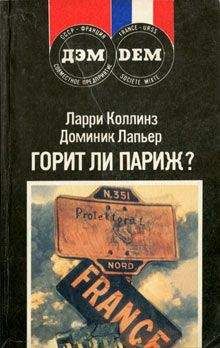Бывало, что не жалели и раненых. Жак д’Этьен, наводчик «Лаффо», очнулся в санитарной машине, увозившей его в госпиталь Сент-Антуан, и обнаружил рядом с собой лежащего без сознания раненого немца. Д’Этьен дотянулся до него и задушил. Затем сорвал с его кителя немецкий «железный крест» и сунул себе в карман. Через несколько минут этот трофей чуть было не стоил ему жизни. В приемном покое госпиталя сестра приколола крест на его одеяло. Валившийся от усталости хирург, решив прооперировать вначале своих соотечественников, шел между рядами носилок, цедя сквозь зубы «бош, бош, бош», если видел раненого немца. Увидев у д’Этьена «железный крест», он вымолвил «бош» и прошел мимо. Француз, уже впадавший в беспамятство, при этих словах попытался приподняться. «Я — бош? — вскрикнул он. — Да вы с ума сошли!»
Но среди тысяч немцев, взятых в плен в этот солнечный день, самая печальная участь ждала офицеров из штаба коменданта Большого Парижа. Для этих людей, символизировавших оплот нацистской тирании, угнетавшей город четыре года, народ Парижа приготовил особую пытку. На всем их пути толпа выла, плевалась, прорывалась через кордоны бойцов ФФИ, чтобы разодрать на них форму, ударить дубинкой, лягнуть в голень.
В середине длинной колонны граф Данкварт фон Арним, несмотря на наброшенную на плечи шинель, чувствовал озноб, глядя на толпу, и вспоминал несколько строк, прочитанных им накануне вечером, о резне, учиненной в Варфоломеевскую ночь. Арним был уверен, что умрет. Отчетливо и ясно представляя свою смерть, он повторял про себя: «Мне придется заплатить за все наши преступления здесь». Чтобы освободиться от этих мыслей, молодой аристократ заставил себя думать о чем-нибудь приятном. Посреди этой визжащей толпы, только что вырвавшей из его рук маленький саквояж, Арним думал о широких просторах своего родового поместья в Бранденбурге, где он еще мальчиком охотился на диких кабанов и оленей.
Его мечты были прерваны появлением орущего человека в голубом берете, прорвавшегося в их ряды. На секунду француз задержался перед Арнимом, выкрикивая что-то и размахивая пистолетом, после чего нацелил его в голову ближайшего немца и выстрелил. Это оказалась голова капитана Отто Кайзера, профессора литературы из Кёльна, который накануне показал Арниму плакат Роля с надписью «Каждому по бошу». Арним побелел и почувствовал подступающую тошноту, заглянув в умоляющие глаза своего умирающего друга. Он задержался, и боец ФФИ прикладом ружья предложил ему двигаться дальше. Арним осторожно перешагнул через тело Кайзера. «Следующая очередь моя», — подумал он.
Шарль де Голль, молчаливый и неулыбчивый, спешил на рандеву с историей в открытом черном «отккисе». По мере того как машина преодолевала последние мили, отделявшие его от столицы Франции, де Голлем все больше «овладевала спокойная уверенность». Он возвращался на родину почти по тем же дорогам, по которым уезжал из Парижа 10 июня 1940 года, когда там царили хаос и всеобщий развал. Он возвращался в Париж, когда в городе еще шли бои — без ведома и согласия своих союзников, во французской машине с водителем-французом, — чтобы помочь в кульминационный момент освобождения, которое, как он и желал того, осуществлялось в основном силами французов.
Было почти 4.30, когда маленькая процессия из трех автомашин, возглавляемая броневиком из 2-й бронетанковой, подъехала к Орлеанским воротам, у которых было «черно от разлившегося вокруг моря взволнованных людей». Его изгнание закончилось. Он покинул Францию как малоизвестный бригадный генерал разбитой армии, а вернулся домой героем.
На другом конце авеню Орлеан, отходящей от площади, через которую он въехал в город, за величественным фасадом «Отель де Виль» лидеры парижского восстания готовились приложить свою официальную печать к его триумфальному шествию по столице. Ждать им придется еще долго. Процессия де Голля свернула влево от «Отель де Виль» к другому зданию — штабу 2-й бронетанковой дивизии на вокзале Монпарнас.
Входя в вокзал под приветственные крики толпы, де Голль увидел знакомую фигуру. Это был его сын Филипп, отправлявшийся вместе с немецким майором в Палату депутатов, чтобы заставить сдаться засевших там немцев.
Леклерк ждал генерала на 21-м пути. Он передал генералу копию документа о капитуляции Хольтица. Читая первые строки документа, де Голль вздрогнул, неприятно удивленный. Имя Роля, холодно указал он Леклерку, не имеет никакого отношения к этому документу. Роль, как его подчиненный, не должен был его подписывать. В этом шаге де Голль прежде всего усматривал попытку своих соперников-коммунистов присвоить себе заслугу освобождения Парижа. Он не собирался уступать им титул освободителя.
Подпись Роля под документом о капитуляции только усилила гнев де Г олля. А порожден он был прокламацией, опубликованной в тот день Национальным комитетом сопротивления, в которой провозглашалось освобождение Парижа. В этом документе ни разу не упоминалось имя де Голля или его правительства. Кроме того, Национальный комитет сопротивления присвоил себе право говорить «от имени французского народа». Это право де Голль не намерен был предоставлять комитету, мысленно приговоренному им к забвению. Де Голлю прокламация представлялась как прямой вызов его власти. Он был готов дать столь же прямой ответ.
Выйдя наружу, де Голль стал здороваться с офицерами штаба Леклерка. Когда он приблизился к Ролю — у того были красные глаза, усталое лицо, да и вообще выглядел он странно в своей форме времен гражданской войны в Испании, — де Голль задержался и бросил на молодого бретонца оценивающий взгляд. Затем, как показалось Ролю, будто поразмыслив, он принял протянутую руку и пожал ее. После этого, как отмечал позднее его помощник, де Голль вышел со станции через двери, обозначенные «Багаж — Прибытие», чтобы отправиться в то самое здание, из которого в обстановке всеобщего хаоса выехал вечером 10 июня 1940 года, — Министерство обороны.
Под охраной всего лишь одного броневика его небольшая колонна двинулась по улицам левобережья, почти мимо того дома, в котором он играл еще мальчишкой. На улице Эбле, не доезжая до Дома инвалидов, процессия попала под обстрел. Пока охрана отстреливалась, де Голль вышел из машины и стал наблюдать. Спокойно попыхивая сигаретой, он стоял возле машины — мишень высотой в шесть футов четыре дюйма, гордо бросающая вызов снайперам вермахта. Две пули пробили багажник машины. Генерал не обратил на них внимания. Жофруа де Курселю, уехавшему вместе с ним из Парижа в 1940 году, де Голль насмешливо заметил: «Ну вот, де Кур-сель, по крайней мере мы в лучших условиях, чем те, что были при нашем отъезде».
В министерстве у прибывшей ранее передовой группы едва хватило времени, чтобы собрать несколько оскорбительных для нового хозяина бюстов маршала Петена, когда к воротам подъехала машина де Голля. Медленным, торжественным шагом он поднялся по ступеням и заглянул, отдавая дань ностальгии, в кабинет, который занимал четыре года назад. Затем он прошел в кабинет министра. Там не были тронуты ни столы, ни ковры, ни шторы. Тот же коридорный, пожелавший ему счастливого пути июньским вечером четыре года назад, теперь поздравил его с возвращением. Даже фамилии, аккуратно выведенные на кнопках вызова на старинном телефоне министра, оставались все теми же, какие он видел в 1940 году. «С тех пор, — подумал он, — огромного масштаба события потрясли Вселенную. Наша армия была уничтожена. Франция чуть не исчезла с лица земли». Но, как с иронией заметил де Голль, в министерстве, которое довело неподготовленную и необученную армию до катастрофы 1940 года, «все осталось неизменным».
Вооружившись письменными приказами Хольтица, офицеры его штаба отправились организовывать капитуляцию тех опорных пунктов в городе, которые еще продолжали сопротивление. Элегантный полковник Яй получил задание прибыть в крепость в той части Парижа, которую он знал меньше всего, — на площади Республики. Пытаясь сохранять достоинство под все усиливающимся потоком плевков, летящих в его джип, Яй смог найти лишь одно утешение в этом тяжком испытании. Меткость толпы оставляла желать лучшего. Сопровождавший его капитан-парижанин принимал на себя, кажется, не меньшее количество слюны. Дорогу показывал Яй: как холодно объяснил ему француз, он долгое время отсутствовал.
Перед зданием Палаты депутатов американский фотограф рядовой 1-го класса Фил Дрелл из Чикаго присоединился к лейтенанту Филиппу де Голлю, когда француз вел переговоры о капитуляции с парламентером от гарнизона этого опорного пункта численностью в 500 человек. В водовороте толпы переводчик де Голля потерялся, и американец в мокрой от пота рубашке вызвался заменить его. Дрелл обратился к одетому в безукоризненную форму немцу на единственном известном ему иностранном языке, который немец мог понять. На идише.