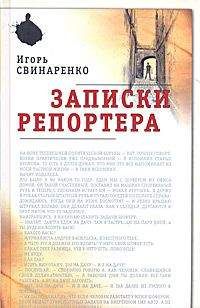Что еще во мне вызывало дискомфорт – легкий, правда, – так это плохой обзор в тех местах, где стоят задние треугольники, или как они там называются – это задние такие окошки. Они слишком маленькие – понятно, что для красоты. Да к тому ж и дверные стойки очень толстые и сильно скошены назад; короче, многое сделано для того, чтоб затруднить водителю обзор… Но опять-таки, если принять во внимание, что водители тебя боятся как огня, – сами будут шарахаться, чуть ты мигнешь поворотником.
Ну вот. Мчусь я, значит, по Киевскому. Представительский кусок трассы кончился, пошла простая русская дорога. Асфальт, конечно. Но такой чисто наш. И выбоины на нем, и заплаты, и кочки, и ребристость. В общем, все неровности были мои. Не скажу чтоб сильно трясло, такого не было. Но уверенность в том, что машина делалась под идеальные нерусские дороги, так появилась. Закралось также сомнение, что в отличие от «пежо» разработчики «лексуса» никогда не делали машин для Африки, с которой у нас немало общего.
Ну доехал я почти до места. До такого, где асфальт, пусть даже и плохонький, кончился и надо было преодолеть с полкилометра грунтовки. Вид она имела неважный: две глубокие колеи уходили в жидкую грязь и в ней терялись, нагоняя ужас – троса нет, трактор поди еще поймай, а что может выкинуть коробка-автомат на буксире, про это и думать неохота. Хотя мы ж на джипе! Как же я забыл! А так, что мягкость и дороговизна автомобиля совершенно отвлекли меня от мысли, что я на вездеходе. Но ведь я вспомнил про это и улыбнулся: вот сейчас, сейчас я заблокирую дифференциал, включу пониженную передачу и смело ринусь в эту кошмарную грязь! Но не тут-то было: после пяти минут поисков я понял, что таких опций в данной модели нету. О как. Ну так не поворачивать же! Перекрестившись, я заехал в колею и по ней вплыл в болото… Машина вильнула вправо, потом влево – и как бы поплыла, не слушая руля. Но поплыла, если не считать незначительных виляний, в принципе прямо вперед. Что от нее и требовалось. В итоге я добрался до места назначения. Принял чистейшей деревенской самогонки, которую я привычно запивал сырыми яйцами – птичий грипп тогда еще не стал в один ряд со СПИДом, – и лег спать. Спал плохо. Сквозь сон я думал о том, где и как буду разыскивать в этих глухих местах мента, если вдруг что с машиной. Но, к счастью, никто на нее там не позарился.
…Назавтра с двумя ведрами грибов – я их погрузил в багажник, открывая и закрывая дверь специальным электромоторчиком, – мы возвращались в Москву. Трепет ушел, к машине возникла уже привычка, я шел 140 и обгонял всех без разбора. Приятно было, глядя на монитор бортового компьютера, осознавать, что средний расход бензина – всего 12 литров на 100 километров…
Еще через день в Москве я поехал было на «лексусе» на одну деловую встречу, где мне предстояло уломать людей на скидку. Тронулся – и тут же дал по тормозам: ну кто ж на этой машине ездит по таким вопросам? Эх! Пересел на «Ниву» – и поехал на ней в полном соответствии с поставленной задачей.
Вы спросите: ну и что ж ты чувствовал, пересевши с такой машины на этакую? Да ничего особенного. Едешь себе и едешь. Нету у нас тут германских автобанов, для которых надобна машина с разметкой шкалы спидометра аж до 240. Негде тут у нас до таких космических скоростей разгоняться. И это больно – водить практически болид, который негде разогнать. Но впечатление же можно с его помощью произвести!
А это вещь тоже в нашей жизни немаловажная…
Мне очень легко объяснять, чем хорош фильм «Груз-200».
Вовсе не потому, что я знаком с Алексеем Балабановым и нахожу его весьма интересным и симпатичным. Это не помешало мне вяло поругивать его «Жмурки» и сдержанно хвалить «Мне не больно».
С «Грузом» другое. Я фильмы смотрю не умом, не рассудком, а я не знаю уж там, потрохами, что ли, какими. И никакие рассуждения об открытиях и каком-нибудь вкладе во что-то возвышенное не могут меня избавить от засыпания перед экраном, или от ухода из кинозала, или – есть у меня и такая реакция – метания диска с балкона; у меня балкон в двух метрах от DVD-плеера. А от «Груза» я вот какое впечатление лелею: чувство, что я не кино смотрю, а подсматриваю за настоящей жизнью и страстно желаю узнать, что же дальше. Такое бывает с детьми, и такое впадение в детство мне дорого. Это, согласитесь, куда лучше кинокритической скуки и заумных формулировок, составленных из дутых терминов. Да, на «Грузе» я совершенно впал в детство, ну и в юность заодно. 1984-й год – это ж была роскошь. В смысле, это задним числом понимаешь, в художественном смысле. Я дежурил по газете, когда помер Черненко, и все такое прочее… Прекрасно помню самогонку, которую все пили, эту нищету советских квартир, дефицитную колбасу, которая висела в каких-то кладовках в ожидании 7 ноября.
С удовольствием я отследил лав стори, главную линию «Груза». Эта роскошная девчонка, цыганистая такая и задорная, ими набиты были тогдашние танцплощадки! Она смугленькая, накрашенная цыганской какой-то тушью, у нее одно на уме… Это новая звезда, говорю вам. Странный критерий был применен при кастинге. Мне Балабанов рассказал, что выбирали из тех, которые согласились всерьез раздеться и сверкать голым телом без стеснения.
Прекрасен этот парень – образ Советского Союза. Он и в соответствующей хоккейной фуфайке, которую лоховатые кинокритики приняли за футболку и долго объясняли, что раньше таких не было. Это серьезный замах – человек как образ государства! Он замечательно наглый и безответственный, он пьет и не думает, к чему это может привести, он ездит, в конце концов, на «Жигулях»… Он соблазняет какими-то идиотскими наивными мечтами молодых интеллигентов, он уводит их черт знает куда, он объясняет, что работать вовсе не надо, когда вот он, Север, с несметными богатствами. Он забыл, зачем и куда ехал; одна девчонка, другая, не все ли равно, мой адрес не дом и не улица, презирая мещанский уют и все такое прочее, как нас учили.
Великолепно поданы менты. Вот откуда такая достоверность и убедительность? А это очень просто. Это не из пальца высосано, это глубокий личный опыт.
– Я сидел к клетке не раз, меня и били, и издевались. Многие там сидели, и очень многие хотели снять про то, как милиционеры издеваются над людьми. Это все – правда, так люди жили… – рассказывал мне Балабанов. И я в ответ удивлялся, что даже ста срок не написал про ментов, таких! При том что бывал в обезьянниках, кого ж не задерживали, да хоть за распитие в неположенных местах… Надо быть действительно художником, большим причем, чтоб из такого сора делать полотна…
Балабанова я люблю еще и за то, что он вопиюще некоммерческий художник. Он искренне равнодушен к деньгам, богатству, роскоши и прочему, к чему сегодня не считается стыдным тянуться. Вот Алексей ходил по «Кинотавру» в тельняшке, и кто-то мог в этом увидеть эпатаж, – ан нет. Он всегда так ходит. Я вам скажу, что у него одни ботинки. И две пары джинсов. Потому что ему неинтересно увлекаться дорогими тряпками. Несмотря на то что он снял не один весьма кассовый фильм. Не ставя задачи сорвать кассу! Он просто самовыражается. Сколько у нас кругом любителей самовыражения, но часто получается скучно – наверно оттого, что сказать нечего. Балабанову – есть что.
Вот еще чем интересно его самовыражение: оно не яйцеголовое, не высоколобое. Балабанов находится на той стороне баррикад, где шоферы, слесари, колхозники, – а не там, где академики и кандидаты наук. При том что он потомственный кинематографист, его папаша был начальником на Свердловской киностудии…
Вот это имперское настроение, этот его восторг от былой советской мощи, эта эпическая печаль при показе гробов и десантников, улетающих в Афган! Это как раз достоверно показанное отношение к вопросу так называемых простых людей, которые не косили от армии в психбольницах, а шли служить, с готовностью и даже с радостью! Балабанов тут в одном ряду с многомиллионным зрителем, который служил и который, будучи страшно далеким от богемы, не стыдится слез по поводу крушения Союза. Я сам не разделяю этого пафоса, и я не советский, и не служил, и вообще про другое, – но глубина этих чужих чувств поражает меня, я вижу в этом пронзительное художественное произведение! Которое попало в точку и разит наповал…
Эта звериная серьезность отношения к кино. Он убежден, что после 50 снять хорошее кино нельзя, а абы какое ему не надо. Ему до этих 50 осталось два года, то есть он, как вы понимаете, в «Грузе» выкладывался по полной: а вдруг кино последнее?
Снимай, говорил я ему, еще и еще – вон Бертолуччи и Кубрик в глубокой старости сделали по крепкому фильму. Которые Балабанов не смотрел и не собирается смотреть.
Имеет право.
Это мы должны то, должны другое, нам надо под читателя и собеседника подлаживаться… Он ничего не должен никому, не желает никого слушать и к чему бы то ни было приспосабливаться.