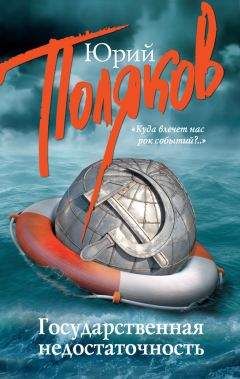Сейчас я себя в оппозиции к государству уже не чувствую. При всех недостатках, недоработках оно все-таки снова учится быть государством: не разрушителем собственной страны, а строителем, охранителем, созидателем. Для себя вывел формулу, что писатель, если он настоящий писатель, всегда будет находиться в оппозиции к власти. К государству – в крайнем случае. Но нельзя воспринимать оппозиционно саму идею российской государственности.
Беседу вела Татьяна МОРОЗОВА«Правда», 28 декабря 2001 г.Наши небоскребы рухнули раньше
У Юрия Полякова никогда не было проблем с имиджем: он рано вошел в литературу, и притом с парадного входа. Сначала это были стихи – азартные, дерзкие, ироничные, например о троллейбусе, в котором «жил и работал поэт Поляков». Потом был взрыв общественного мнения, вызванный его повестями: «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками», «Сто дней до приказа». Кстати, против последней повести в середине 80-х выступил влиятельный тогда заместитель начальника ГлавПУРа генерал Дмитрий Волкогонов…
А Поляков писал, невзирая ни на что, прозу, публицистику, киносценарии, ухитряясь попадать в самые болевые точки нашей расхристанной действительности. А еще успевал просвещать с телеэкрана, редактировать журнал, поддерживать молодых писателей. Он заметно обновил «Литературную газету», став в прошлом году ее главным редактором. Прошлый 2001-й можно считать годом Полякова: в двух московских театрах с аншлагами пошли спектакли по его пьесам. Снятый по повести «Небо падших» фильм «Игра на вылет» завоевал приз на одном из кинофестивалей, начались съемки фильма по повести «Козленок в молоке», в издательстве «Молодая гвардия» вышел четырехтомник писателя, наконец, в конце года он стал лауреатом новой престижной премии «России верные сыны». Сегодня Юрий Поляков – наш собеседник.
– Юрий Михайлович, вы писатель, который стал колебателем основ советской империи. В своих первых повестях подвергли критике армию, комсомол, образование. По логике вы должны были примкнуть к стану демократов, но этого не случилось. Почему?
– Я принадлежу к поколению писателей, пришедших в литературу в 70-е годы. Мы повторили ситуацию, в которой оказались наши предшественники конца XIX – начала XX века, то есть предреволюционного периода. Дело в том, что наша точка зрения, наши искренние призывы, наши оценки были нечестно использованы политиками. Когда я писал о том, что мне не нравится в комсомоле, я не считал, что не должно быть серьезной огосударствленной молодежной организации. Когда я писал о том, что мне не нравится в армии, я не считал, что молодой человек не должен служить в армии. Когда я писал о проблемах школы, я не считал систему советского образования непригодной.
Русская литература вся социально сориентирована. Традиционно отечественная литература всегда говорила о том, что человека унижает, что мешает ему жить. Русская классическая литература и советская литература – это единый процесс. В советскую эпоху были писатели внутренне свободные – Валентин Распутин, Юрий Трифонов, и были писатели, что называется, крутые соцреалисты. И мы – писатели 70-х годов – в советской версии продолжали задачи русской классической литературы. Мы не ставили под сомнение положительную сторону советской цивилизации. Мы говорили о том, что плохого нам не надо, а давайте развивать хорошее. Но использовано это было совершенно иначе. Все хорошее: относительная социальная справедливость, гарантия образования, здравоохранения, отдыха, поддержка государством культуры и масса других вещей – было вышвырнуто. А то, что нас смущало: несправедливость, чрезмерная идеологизированность – напротив, приняло чудовищные формы.
В 1993 году ко мне подходили и говорили: «Юра, что ты делаешь? Зачем протестуешь против расстрела Белого дома? Ты просто молчи. А за твои советские критические повести тебе все будет: переиздания, должности». Но для меня это неприемлемо. Становясь серьезным писателем, ты становишься участником сложнейшего духовно-исторического процесса, и все твои лукавства, приспособленчества остаются навсегда. Мы как-то забыли о том, что русский писатель в XIX веке всегда ценился не за умение пристроиться в кильватер к очередной власти, а за обостренную совестливость.
– Сергей Михалков назвал вас последним советским писателем.
– Действительно, я развивался как советский писатель, во мне никогда не было диссидентского запала, желания разрушить все любой ценой. И сегодня в моем отношении к окружающей действительности ничего не изменилось. Мне, как и раньше, не нравятся непорядочность, нечестность, подлость, и я продолжаю об этом писать. Мое «ЧП районного масштаба» было не о комсомоле, а об аппарате, который уже стал готовить типаж новой политической эры – беспринципного политика, приобретателя, готового заработать любой ценой. Социализм родил своего могильщика: партийный функционер стал могильщиком социализма.
– Соцреализм функционеры угробили, а сами выскочили…
– Да, особенность революции 80-х годов заключается в том, что наш правящий класс почти не пострадал, в отличие от правящего класса 1917 года, который практически был уничтожен… Наша революция была хитро продумана: правящий класс не свергается, а возносится еще на несколько ступенек выше.
В нынешней ситуации меня многое не устраивает, но так как после взрыва остались руины, то нам в этих руинах жить, обустраивать их, растаскивать весь этот завал. Наши небоскребы рухнули именно так, и ничего уже с этим не поделаешь. Я всегда смотрю, как в послереволюционный период вела себя русская интеллигенция, которая не уехала, осталась и, рискуя жизнью собственной и близких, занималась тем, что Бердяев называл «преодолением большевизма»: обустраивала разруху, возвращала ценности, которые были незаслуженно отвергнуты, не дала сбросить с корабля современности Пушкина, потом и Достоевского вернули. Со временем и православные ценности стали возвращаться. Советская идеология начала и конца советской власти значительно отличается, и в этом заслуга честной интеллигенции, которая приняла свершившееся как данность, поняла, что силой здесь ничего не сделаешь, – наш народ устроен так, что часто он не поднимается постоять за себя. Очень показательна в этом смысле судьба шахтеров. Надо было умудриться так взвинтить шахтеров, одну из самых богатых профессиональных групп советского общества, чтобы они застучали касками. А теперь, когда у них ничего нет, они не стучат.
– В пору перестройки к взвинчиванию народа приложила свою руку и интеллигенция.
– Да, элита изменила национальным интересам. Она неправильно сориентировала общество. Для чего существует элита, или интеллигенция, как у нас говорят? Когда человек в поте лица добывает хлеб, ему некогда задумываться. Я вырос в рабочей семье. Смена у моего отца начиналась в половине восьмого, а возвращался домой он в шесть вечера. О судьбах Отечества думать было некогда – нужно было выполнять норму. Поэтому общество воспитывает интеллектуалов, от которых требуется одно: с помощью своего образования и головы оценивать те вызовы, которые народу бросает цивилизация, и подсказывать честные, правильные решения. Наша элита сориентировала общество с точностью до наоборот.
– Почему это произошло? Нашей элите и при советской власти неплохо жилось…
– Во-первых, это случилось во многом потому, что наша элита была воспитана в прозападнических традициях и жила с ощущением, что там все правильно, а здесь все неправильно. Во-вторых, было какое-то самообольщение, убежденность в том, что прогресс – это неуклонное движение вперед. В 1985 году никому не могло прийти в голову, что от перемен может стать хуже. Я только теперь понимаю, почему такими осторожными были люди, пережившие Гражданскую войну. Они понимали, что налаженное сдвинуть можно, но что потом будет, никто не знает. Наша интеллигенция в большом долгу перед народом. Если бы честно предупредили, что произойдет такое резкое обнищание населения, такой крах геополитического статуса страны, никто не пошел бы за Горбачевым.
– В чем вы видите сейчас главную задачу литературы?
– Наша главная задача – осмыслить эпоху. Советская эпоха практически не осмыслена: там был или откровенно диссидентский взгляд на происходящее, или выполнение социально-партийного заказа. Мы должны объективно взглянуть – без гнева и пристрастия – и понять, что это была за эпоха, что за общество. Я не понимаю наших постмодернистов, которые придумывают мир из цитат и отголосков. Представьте себе, что Лев Толстой вместо того чтобы написать «Войну и мир» и «Анну Каренину», написал бы цитатник из Стерна и Диккенса. Как современник крупнейших геополитических и социальных сдвигов, как свидетель крушения огромной империи, небывалой цивилизации (социалистические модели не держались так долго никогда) писатель должен попытаться художественно осмыслить, постичь, передать потомкам честный рассказ о происшедшем.