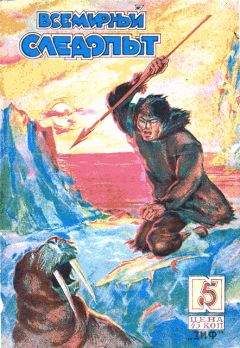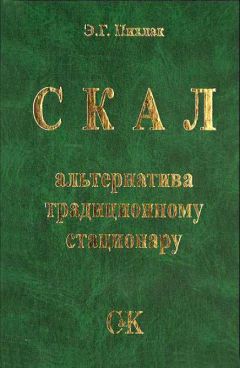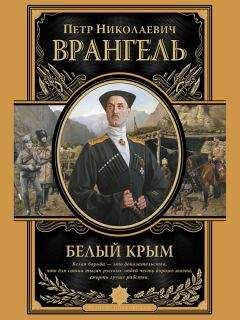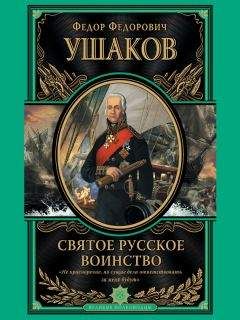Степь пробуждается.
Рассказ Михаила Ковлева.
Липкая промозглая тьма ноябрьской ночи тесно обступила костер. Головешки тревожно потрескивали, багровели, вспыхивали и обрушивались. Спиральные дымные фонтанчики и золотая мошкара искр улетали в ветренное лохматое небо. Кровавые отблески и мягкокрылые тени, сменяя друг друга, проносились по скуластым лицам сидящих вокруг костра. Гигантский горб холма, выпятив вперед кривые базальты уступчатых подножий, с трех сторон защищал огонь и людей. С четвертой была степь — бескрайняя, черная, молчаливая. В сотне метров справа тесно прижались к материнской груди скалы кривые лачуги и юрты спящего улуса. Ночь нависла кругом.
Один из сидящих гулко вздохнул. Узловатые пальцы его протянулись к огню и бесстрашно подняли вверх струисто тлеющий уголь. Положенный на табак, уголь побагровел, золотыми вспышками разрывая ажурную пленку нагара. Частые вспышки закровавили мерно причмокивающие на мундштуке трубки толстые губы. Курильщик сбросил уголь, смачно плюнул в костер и сипло бросил:
— Время!
— Что же, докладывай, Апон! — поддержал его кто-то из тьмы.
Молодой курчавый хакас наклонился вперед. Через узкий прорез монгольских век задумчиво и пристально всматривались в огонь живые черные глаза.
— Старики! — медленно заговорил Апон. — Не надо итти в Урянхай[1]. Что Урянхай? Урянхай далеко-далеко. Про далекое люди всегда говорят хорош. А почему? Потому, что издали видно одно солнце, а дождь увидишь, только попав в него. Вы, старики, сказали: «Апон, иди в Урянхай; Апон, смотри, как там люди живут». И Апон послушался. Апон поехал через Абакан[2], Минусу[3] и Ермаковку[4]. Много-много дней ехал Апон. Сначала была степь, потом был лес, горы, еще лес и еще горы. Большой лес и большие горы! Десять раз, сто раз такие горы, — обернулся он к угрюмому холму за своей спиной. — Горы до неба! А за горами был Ус[5]. А в Усе много-много комиссерен спрашивали Апона, куда ему нужно, и не хотели пускать его в Урянхай. «Урянхай теперь Танну-Тува — другая сторона, — говорили они. А чтоб итти в другую страну, нужно пазалыг-бланка — визу». Но у Апона не было пазалыг-бланка. Тогда Апон опустил голову и сказал, что поедет домой. И верно, поехал, да не один, а вместе с толстым русским Васей. Недалеко отъехал Апон. В лесу он отдал лошадь с телегой Васе, а сам пошел напрямик в сторону полуденного солнца. Только берданку, спички да сухари взял с собой Апон. Три дня и три ночи шел он лесом и горами, лазал по камням, ломал ногти, сбивал ноги. Над горами свистел холодный ветер. Было холодно, ох, как холодно! Но Апон шел. Видел сохатого, видел барана-архара с рогами, круглыми как бубен шамана, и лесной дядя хотел съесть Апона. Тогда Апон стрелял из берданки, лесной дядя сделал «уф» — и ушел. Три дня и три ночи шел и карабкался Апон, пока не остались позади последние горы и деревья. А за горами снова стало тепло и начались степи. Такие же, как и у нас, хорошие степи. Это был Урянхай.
Слушатели теснее подвинулись к огню. Отсветы костра сверкали в напряженных зрачках. И, чувствуя на себе горячие взгляды, Апон с увлечением продолжал рассказывать:
— Но стоит ли туда переселяться? Бросать родную землю, дешево распродавать стада, которые не проведешь через горы? Так могут сделать только баи. Не лучше ли всем чохчос[6] помогать друг другу, живя здесь, объединиться и вместе держать скот. Вы думаете хорошо в Урянхае? Нет! Зачем ты, Алексейс, зачем Губон-шаман и ты, богач Димитрий, говорите, что в Урянхае болота из молока и холмы из баранины? Зачем твердите, что за половину белого червонца там дают столько пастбищ для скота, сколько охватит взгляд с самого высокого кургана. Для чего обманываете, что в Урянхае жирный баран стоит половину рубля, а за пол-барана дают ситцу на трех баб? Слушайте, люди Хакасы! — зазвенел рассказчик. — Это все ложь, так говорит вам Апон. В Урянхае тесно, земли мало, стада тощие, баранина и молоко стоит столько же, сколько и у нас, а ситцу и табаку нет совсем. В Урянхае трудно достать спички, и за три коробки дают барана. Здесь для наших детей совэт-улгу[7] сделала школы, а там их еще нет. Тут мы сами выбираем себе хакуметчи[8] и во всем нам помогает совэт-улгу. А в Урянхае не так… Алексейс, Губон-шаман и богач-Димитрий обманули вас, люди Хакасы.
Тяжелая трубка уже давно перестала пыхтеть. Курильщик наклонился к огню, и его юркие, заплывшие жиром глазки вонзились в лицо Апона.
— Не слушайте его, хакасы! — захлебываясь слюной и размахивая трубкой, закричал Димитрий. — Он сам лгун. Он продался коммунистам и совэт-улгу. Коммунистам нужно, чтобы вы жили на их земле, работали на них все вместе и платили налог. Вот для чего они не хотят пускать вас в счастливый Урянхай. Вот почему они подкупили Апона распускать сплетни. Не даром Апон хотел поступить в чиитэриин комунис пиригизи[9]. Не слушайте этого лгуна!
Курильщик тяжело поднялся. Под расшитой рубашкой колыхался его упругий живот.
Апон вскочил тоже, швыряя в лицо Димитрия короткие, злые слова:
— Ты, клоп! Ты, как и всякий бай, сосешь кровь! У нас, у бедняков ты высасываешь кровь! За твоим скотом смотрим мы, а жиреешь ты. У тебя тысяча и сто баранов. Совэт-улгу не любит таких, как ты. А ты не любишь платить налог. Вот почему ты хочешь удрать в Урянхай. Ты подговорил Алексейса и Губона-шамана. Алексейс тоже богат и не хочет отдавать власти своих долгов. А шаман сердится, что кругом стало много врачей и ветеринаров, которые не дают ему портить людей и скот. Ты клоп и шаман клоп!
Димитрий взвизгнул и, высоко занеся руку, размахнулся. Трубка свистнула и, стремительно блеснув над костром, резнула щеку Апона. Он покачнулся, хватаясь за ушибленное место, как-то странно присел и вдруг пружинисто прыгнул через костер, поднимая маленький, костлявый кулак.
Голоса и движение раскололи ночной покой. Высокий сутулый мужчина в обшитых бисером катанках[10], сверкая продетой в левое ухо крученой жести серьгой, встал между врагами. Кучка хакасов, шумя и переругиваясь, окружила их плотным кольцом.
— Стой, Апон, стой, Димитрий! — крикнул высокий. — Дело нельзя решать кулаками. Мы сами разберем, кто прав.
— И я! — донесся из тьмы за костром, чуть хриплый старческий голос.
* * *
В зыбкий полукруг огненных бликов, важно ступая обутыми в короткие сапоги ногами, входил широкоплечий грузный человек.
Космы засаленных черных волос падали на расшитый бисерными звездами ворот его рубахи. Клочковатая мочала встрепанной, тронутой грязной сединой бороды закрывала подбородок и широкие скулы, поднимаясь к неподвижным рачьим глазам. Прикрепленная к рубашке густая бахрома из длинных разноцветных лоскутов, закрывая грудь, болталась по коленям. Пришитые к ней и к рукавам маленькие медные бубенчики надтреснуто брякали при каждом шаге. Зловещий жестяный звук разрывал внезапно наступившую почтительную тишину.
Шаман медленно подошел к костру и, вытянув руки, поднял над огнем тяжелый обруч разрисованного спиралями и звездами кожаного бубна. Сухие губы двигались, что-то шепча, и стеклянные тупые зрачки бесстрастно смотрели во тьму. Бубенчики замолкли, и литая тишина нависла кругом. Хакасы молчали, поспешно опускаясь на корточки. Опершись ладонями о согнутые колени, они напряженно ждали. Багровые отблески костра и кружевные тени дрожали на лицах. Только высокий человек с серьгой, трое молодых парней и Апон остались стоять в стороне.
Высокий наклонился к Апону и горячо зашептал:
— Ты поспешил, парень! Разве ты не знаешь, что почти все люди из нашего улуса должны Димитрию кто пять, а кто и десять баранов. Разве ты никогда не слышал, что кто не в долгу, тот или сам богат, или боится шамана? Их послушают, а нам будет плохо.
Апон выпрямился и, подавляя негодование, заговорил:
— А кто виноват в этом, Карол? Ты — хакуметчи нашего улуса! Меня не было здесь много-много недель. Давно уже вместе со всеми нашими единомышленниками, — показан он на свою группу, — ты должен был заявить в район, что шаман и баи сбивают и обманывают людей улуса. Ты сам виноват. Теперь уже поздно спорить. Иди, запрягай коней. Поедем в район.
Карол мрачно потупился. Потом, решась на что-то, тряхнул кудлатой головой, от чего звонко брякнула серьга в его ухе, и шагнул вперед. Чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Один из стоящих рядом молодых хакасов, до сих пор кивками и слабыми восклицаниями подтверждавший упреки Апона, остановил председателя.
— Смотри, — указывая на костер, тихо сказал он. И, словно подчеркивая это предупреждение, ухнул раскатистый удар бубна.