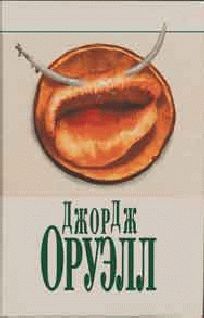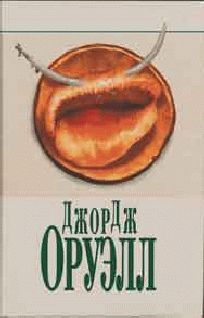Но это не должен быть приверженец веры, которой в настоящее время принадлежит мир. Стоит мне почуять за ним власть победоносной церкви, стоит заметить, что верующий пытается прикрыться силой этой власти, использует ее, чтоб угрожать и пугать, — меня охватывает отвращение и ужас.
Что это? Что волнует меня — вера или ущемленная вера?
Нелегко отыскать путь назад, туда, где раздаются шаги и голоса невинных людей, после того как занимался безжалостной погоней за имущими власть. До чего ж были они ненавистны, и как привычна стала эта ненависть! И каким простым нужно стать снова, каким бережным и любезным! Вроде как самому отправить себя на пенсию и после всю жизнь продолжавшейся охоты на опасных монстров разводить цветы.
Но охотник никогда не забудет, кем был, и хотя бы во сне станет преследовать себя самого.
Кто действительно знал бы, что связывает людей между собой, тот мог бы спасти их от смерти. Загадка жизни — загадка социальная. Никто не приблизился к ее разрешению.
1961Следовало бы уметь сказать это в столь немногих фразах, как Лао-цзы[212] или Гераклит, а пока неспособен на это, значит, на самом деле нечего и сказать.
Ужаснейшие из людей: те, что все знают и верят в это.
Перевод мыслей, что занимали тебя более двадцати лет, на другой язык. Их недовольство, поскольку не в этом языке они родились. Смелость их тускнеет, они отказываются излучать. Они тащат за собой не имеющее отношения к делу и растеривают по дороге важное. Они выцветают, они меняют свой цвет. Они кажутся себе трусливыми и осторожными, первоначальный угол падения ими утрачен. Они скользили хищным лётом, теперь же бьются, как летучие мыши. Их бег был пружинистым наметом гепардов, теперь они ползут себе, как безногие ящерицы.
Унизительно думать, что именно в этом редуцированном виде усмиренные и оскопленные, они скорее найдут понимание!
Дух озаряющий и упорядочивающий. Гераклит и Аристотель как экстремальные случаи.
Озаряющий дух сроден молнии, он стремительно покрывает громаднейшие протяженности; оставляя в стороне все, он рвется к одному лишь единственному, что ему и самому неизвестно, пока его свет не озарит это. Действие его начинается с удара. Без мало-мальских разрушений, без трепета страха он для людей бесплотен. Одна вспышка, без них, чересчур неопределенна и бесформенна. Судьба нового знания зависит от места удара. Человек для этой молнии в значительной мере еще девственная земля.
Озаренное идет в наследство упорядочивающим. Их манипуляции столь же медлительны, сколь стремительно движение тех других; они картографы удара, к которому недоверчивы, и своими действиями стремятся предотвратить новые попадания.
1962Фокус: швырнуть что-нибудь в мир, да так, чтоб тебя не потащило следом.
Он кладет фразы, как яйца, вот только забывает их высидеть.
Страх перед годом 1000. Заблуждение. Ему бы зваться 2000… если до него дойдет.
Там умершие продолжают жизнь в облаках и в виде дождя оплодотворяют женщин.
Там боги остаются малы, в то время как люди подрастают, выросши такими большими, что богов уже не разглядеть, они станут душить друг друга.
Там у них змеи за предков; они заботятся о них и гибнут от
Там каждым правит его врожденный цепень, а он заботится о нем и во всем послушен.
Там они действуют, лишь сбиваясь в сотни; одиночка, никогда не слыша обращенного к нему слова, сам себе неведом и потихоньку сходит на нет.
Там они общаются шепотом и наказывают за громкое слово изгнанием.
Там живые постятся и откармливают мертвецов.
Там они селятся на громадных деревьях, которых никогда не покидают. Далеко на горизонте маячат другие деревья, недостижимые и злобные.
1963Предустановленная гармония разрушения.
Но труднее всего — не мытарить других тем, что исправляешь в себе самом.
Святой — это тот, кому удалось ограничить все нравственные мучения пределами собственной персоны.
Мудрым же был бы тот, кто прекратил мучить уже и себя. Он знает, что совершенства не существует, и горячность оставила его.
Не покидай же меня теперь, черная туча. Останься надо мной, чтобы не стала старость пресна и пуста, останься во мне, яд горя, пусть не забуду я об умирающих людях.
1964 ОбществаОбщество, где люди по желанию могут стареть и молодеть и живут попеременно, то так, то этак.
Общество, где с каждого пишут портрет и он молится на свое изображение.
Общество, где люди смеются, вместо того чтобы есть.
Общество, состоящее из одних стариков, в слепоте зачинающих все более старых.
Общество, где от хороших и добрых смердит и все их сторонятся. Издали, однако, восхищаются ими.
Общество, где никто не умирает в одиночку. Тысячи собираются вместе, добровольно и публично подвергаются казни — их праздник.
Общество, где дети выполняют роль палачей, чтобы ни одному взрослому не марать своих рук кровью.
А что, если вера всех ошибочна? Или если результат действий каждого противоположен тому, во что он верит?
Взгляни-ка на них, этих мощных духом фанатиков, которые умели так верить, что заражали своей верой многие сонмы! Христианская вера любви — и инквизиция! Основатель тысячелетнего царства для немцев — их разделенность и духовный крах! Белый Спаситель ацтеков в образе испанцев, истребляющих их. Обособление евреев как народа избранного и завершение их обособления в газовых камерах. Вера в прогресс и его высшая реализация в атомной бомбе.
Так, будто всякая вера есть свое собственное проклятие. Может ли это быть отправным пунктом в разрешении загадки веры?
Менее всего в любви милосердия. Одна из ее особенностей в том, что и малейшее имеет значение и ничто не остается забыто: эта всеохватность и педантичность и составляет ее. Когда говорят: я хочу всего, то и подразумевают все. Возможно, один только каннибал и был бы тут вполне последователен. Душевный каннибализм, однако, сложней. Да к тому же еще налицо два каннибала, одновременно поедающие друг друга.
Буддизм не удовлетворяет меня тем, что отказывается от чересчур многого. Он не дает ответа на вопрос о смерти — он обходит ее. Христианство по крайней мере отвело умиранию центральное место: чем же иным является крест. Нет ни одного индийского учения, в котором речь действительно велась бы о смерти, поскольку ни одно не выступило против нее безоговорочно и полностью: ничтожеством жизни оправдывается смерть.
Следовало бы прежде посмотреть, какова та вера, что рождается в человеке, видящем и признающем чудовищность смерти и отказывающем ей в каком бы то ни было позитивном смысле. Вполне бескомпромиссной неподкупности, являющейся необходимым условием подобного взгляда на смерть, еще не встречалось в мире: слишком человек слаб и прекращает борьбу еще до того, как решается ее начать.
Все позабытое вопиет во сне о помощи.
1965Он хотел бы начать все с самого начала. А где начало?
Суверенитет человека состоит в том, что во всякое мгновение он вправе сказать себе, о чем думает.
Собственные соображения всегда представляются ему подозрительными, если удается убедительно отстоять их перед кем-либо.
Труднее всего прощается бесцеремонность. Она перешагивает через самое святое и одновременно наиболее ранимое: через близость.
Как жаждут в любви заверений и как их боятся, будто они расходуют нечто, что без них прожило бы дольше.
Всем мыслителям, исходящим из негодности человека, присуща необычайная сила убеждения. В их словах звучит опыт, мужество, правдивость. Они глядят в лицо действительности и не страшатся назвать ее по имени. Что это всегда неполная действительность, замечают лишь позже; а что было бы еще мужественней, в той же самой действительности, не фальсифицируя ее и не приукрашая, найти зародыш иной, возможной при измененных обстоятельствах, — в этом признается себе лишь тот, кто еще лучше знает эту негодность, кто носит ее в себе, ищет ее в себе, находит ее в себе: поэт.
1966Новые, существенные открытия в изучении животных возможны лишь потому, что мы основательно поутратили нашего высокомерия в качестве венца творения Божьего. Выявляется, что мы скорее последняя тварь Господня: палачи Бога и мира его.
Не говори: я был здесь. Всегда говори: я не был здесь никогда.
Есть народы лишь избранные: те, что еще существуют.
Одно из назойливо раздающихся в английской жизни примирительных выражений «Relax!»[213] При этом мне представляется некто, говорящий Шекспиру: «Relax!»