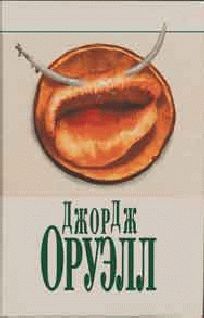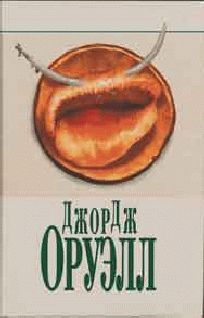Человек: животное, замечающее, что убивает.
Льстец, вдруг видящий, к собственному ужасу, что все люди становятся такими, как он их изображает.
Последнее желание, обращающееся вокруг Земли и не изменяющееся с течением тысячелетий.
Чересчур много людей — говорят те, что не знают ни одного; слишком мало — говорит тот, кто начинает узнавать их.
Небеса, населенные космическими идиотами. Зевота звезд.
Паскаль потрясает меня до глубины души. Математика в поре невинности. И уже она кается.
Всякий старец видит себя как сумму удавшихся ухищрений. Всякий юноша ощущает себя началом вселенной.
Разложить реку на ее ручьи. Понять человека.
В любой семье, не являющейся его собственной, человек задыхается. В собственной также, только не замечает этого.
Каким будет все это людское множество, сколько воздуху останется для каждого? Научатся они обходиться без пищи? Станут обживать атмосферу и в многоэтажных постройках — земное нутро? Откажутся от движения и станут лишь медитировать? Перестанут обонять? Будут шептать? Светиться?
Особенность Роберта Вальзера[214] как поэта состоит в том, что он никогда не высказывает открыто своих мотивов. Это скрытнейший из поэтов. Всегда у него все наилучшим образом, всегда он в восторге. Но увлеченность его холодна, оттого что оставляет незатронутой одну из частей его личности, а потому не только холодна, но и жутковата. Все для него превращается во внешнюю природу, а ее суть, ее глубинную сущность, страх, он отрицает в течение всей своей поэтической жизни.
Лишь позднее начинают звучать голоса, мстящие ему за все утаенное.
Его поэзия — это беспрестанное усилие замолчать шевелящийся страх. Он бежит отовсюду прежде, чем тот чрезмерно разрастается в нем (его блуждающее существование), и преображается нередко, ища спасения, в нечто услужливое и маленькое. Его глубокая и инстинктивная антипатия ко всему «высокому», и прежде всего к тому, что обладает положением и престижем, превращает его в значительного и важного поэта нашего времени, задыхающегося в объятиях власти. Язык не поворачивается назвать его, следуя обычному словоупотреблению, «великим» поэтом, ничто не претит ему так, как «великое». Блеск величия, перед ним лишь склоняется он, а не перед его притязаниями. Наслаждение для него — любоваться блеском, оставаясь в тени. Нельзя читать его без стыда за все то, что представлялось важным во внешней жизни, и потому он особого рода святой — не из тех, что святы по обветшалым и выдохшимся предписаниям.
Столкновение с «борьбой за существование» приводит его в ту единственную сферу, куда она уже не достигает, в сумасшедший дом — монастырь современности.
Я спрашиваю себя, есть ли среди тех, кто выстраивает свое уютное, безмятежное, устойчивое, прямое как стрела академическое бытие на судьбе в нищете и отчаянии жившего поэта, — есть ли среди них хотя бы один, которому совестно?
Он не говорит ничего. Да, но как он это разъясняет!
Он желает стать лучше и упражняется ежедневно до завтрака.
Я есть. Нет меня. Новая считалка человечества.
Словообильные стареют первыми. Вначале увядают прилагательные, затем глаголы.
Поэт вправе оберегать свою несправедливость. Если он будет все время ревизовать все, что будило в нем противодействие, и корректировать свои антипатии, от него ничего не останется.
Его «мораль» в том, чего он не приемлет. Однако вдохновляться ему дозволено всем до тех пор, пока исправно действует его «мораль».
Что в Гёте нередко наводит скуку, так это его всегдашняя завершенность. Все более и более недоверчив он с годами к порывистой односторонности. Но он, разумеется, столь огромен, что нуждается в равновесии совсем иного рода, чем другие люди. Он не расхаживает на ходулях, а как чудовищный вселенский шар духа покоится, всегда завершен и округл, опираясь на себя самого, и, чтобы понять его, нужно обращаться вокруг него подобно крошечной Луне — роль несколько унизительная, однако единственно уместная, когда имеешь дело с ним.
Он придает силы, но не для бесшабашной отваги, а для выдержки, и мне неизвестен другой великий поэт, в чьей близости смерть так подолгу скрывала бы свой лик.
Находить новые неудовлетворенные желания, вплоть до глубокой старости.
Философом мог бы считаться тот, для кого люди остаются так же важны, как и мысли.
Все книги, которые только и демонстрируют, как мы поднялись до нынешних наших воззрений на животное, человека, природу, вселенную, вызывают во мне неудовольствие. И куда ж это мы там поднялись? В произведениях мыслителей прошлого выискиваются фразы, отражающие взгляды, приведшие постепенно к нашему мировидению. По поводу большей, ошибочной части их мнений высказывается сожаление. Что может быть стерильней подобного чтива? Как раз «ошибочные» мнения прежних мыслителей и есть то, что вызывает мой наибольший интерес. В них могут содержаться зачатки вещей, которые нам наиболее необходимы, которые выведут нас из ужасного тупика нашего сегодняшнего миропредставления.
По меньшей мере дважды в истории развития философии представления о массе имели решающее значение для формирования нового миропонимания. В первый раз — у Демокрита: множественность атомов; во второй раз — у Джордано Бруно: множественность миров.
С тех пор как его можно осуществить с помощью взрывов, Ничто утратило и свой блеск, и свою красоту.
Очень старый человек, не принимающий никакой пищи. Питается своими годами.
Во сне спускался по многим лестницам, вышел наружу на вершине Мон-Венту.
1968 ЛихтенбергЕго любопытство не сковано ничем, оно выскакивает и собирается отовсюду и бросается навстречу всему.
Его просветленность: даже самое темное становится светло, окунувшись в его мысль. Он мечет лучи света, он желает попаданий, но не хочет убивать, чуждый убийства дух. И тело его ничем не прирастает — ни жира на нем, ни припухлостей.
Он не испытывает недовольства собой, слишком уж много у него идей. Роящийся дух. Но в этой толчее всегда есть простор. Что он не склонен ничего округлять, что ничего не доводит до конца — его и наше счастье: так ему удалось написать богатейшую книгу мировой литературы. Все время так и хочется обнять его за эту воздержанность.
Ни с кем так не хотелось бы поговорить, как с ним, но в этом нет необходимости.
Он не избегает теорий, но всякая из них для него повод к новым идеям. Он умеет играть с системами, сам не запутываясь в их тенетах. Наитяжелейшее он может смахнуть как пылинку с рукава. Подхваченный его движением и сам становишься легок. С ним все принимаешь всерьез, однако не чересчур. Ученость легкая, как свет.
Он слишком неповторим, чтобы можно было ему завидовать; обстоятельность, свойственная даже и величайшим умам, ему настолько чужда, что того и гляди перестанешь воспринимать его как человека.
Это верно, что он соблазняет к скачкам. Да, но кто на них способен? Лихтенберг — это блоха с человеческим интеллектом. Он обладает несравненным даром прыгать прочь от себя самого — куда-то прыгнет он в следующий миг?
Его капризный произвол находит для себя все книги, подстрекающие его к прыжкам. И если другие, обремененные тяжестью книжной премудрости, обращаются в дьяволов, то он лишь взращивает на ней свою утонченную деликатность.
Возможно, Кафка отбивает охоту ко всякому явному или тайному хвастовству. […]
С Кафкой пришло в мир нечто новое, более отчетливое ощущение сомнительности, соединенное, однако, не с ненавистью, а с благоговением перед жизнью. Сочетание этих двух видов эмоционального отношения — благоговение и сомнение в одно и то же время — уникально, и, раз соприкоснувшись с ним, без него уж не обойтись.
Я преклоняюсь перед слабостью, которая не является самоцелью, которая всему сообщает прозрачность, которая не отдает никого, которая отвечает власти упрямой неподатливостью.
Большие имена, как только они достигнуты, должны бы собственноручно разбиваться их обладателями.
Он разрубил стол пополам и уселся писать вдвойне.
Наиболее многообещающее во всякой системе — не вошедшее в нее.
Многозначность всех социальных явлений такова, что их можно толковать как вздумается. Но наименее убедительна из всех — попытка дефинировать их функционально и тем исчерпать их содержание.
Ведь может статься, что общество — вовсе не организм, что оно не обладает строением, что функционирует лишь временно или лишь иллюзорно. Наиболее доступные аналогии — не самые лучшие.
Громкие слова должны бы вдруг начинать свистеть, как чайники, в которых кипятят воду, — в качестве предупреждения.