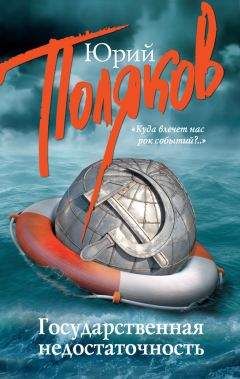– Сергей Михалков назвал вас последним советским писателем. Что это звание для вас?
– Он сказал, что Поляков – последний советский классик. А еще Михалков назвал мой «Демгородок» одним из лучших сатирических произведений в русской литературе XX века. Я горжусь этой оценкой. Он имел в виду, что в моей еще советской прозе была выработана до дна та возможность, та свобода, которая давалась писателю при условии, что он не выйдет за рамки советских табу. Любая литература ведь имеет свои табу. Бред, что только коммунисты это придумали. Например, Уайльд попытался нарушить табу Викторианской эпохи – и что с ним сделали… А я в рамках советской литературы сказал все, что думал.
Ведь, например, «Тихий Дон» многократно издавался при советской власти. И сколько лет прошло, сколько вынули из архивов, сколько книг вернулось из зарубежья, а произведения равноценного об этой эпохе нет. Хотя, казалось бы, Шолохов был ограничен и цензурой, и идеологическим диктатом. В этом и есть специфика советских классиков. Мне ведь предлагали издать и «Сто дней до приказа», и «ЧП районного масштаба» за границей, но я сознательно на это не пошел. Писатель только в крайнем случае может оказаться по ту сторону. Литератору надо развиваться в рамках той цивилизации, в которой он родился. Проще всего уехать из страны и плевать на нее оттуда. Вы не задумывались, почему книги о советской власти, написанные за бугром, у нас не прижились?
– Вы не любите русское зарубежье?
– Вовсе нет. Среди тех писателей ведь большинство – жертвы исторического катаклизма… Как можно плохо относиться к Бунину? Я другое имею в виду. Я говорю о тех вещах, которые были написаны о советской эпохе следующей волной эмиграции – диссидентами. Я, например, сомневаюсь, что сегодня кто-то ради удовольствия перечитывает романы Солженицына. Потому что это – политическая литература. А Булгакова перечитывают! И Платонова тоже. Хотя у него проза тяжеловатая, но это из-за ее густоты.
– Вы всегда знаете, какая из ваших вещей станет бестселлером?
– Не ставлю перед собой цель – написать бестселлер. Я просто пишу, подолгу переделываю. Я понял, что, помимо хорошего сюжета, образов запоминающихся, точного языка, насыщенного, главное – никогда умом не просчитывать успех книги. Как только процесс написания переходит в математическое действие – все, человек обречен на промах. Когда я писал свои первые книги, мне постоянно внушали: это не напечатают, зачем ты это пишешь? А я отвечал: да мне наплевать, меня это волнует.
– И оказалось, что волнует это не только вас…
– Да! Потому что я самый обыкновенный представитель советской интеллигенции. Именно советской, не старорусской. И все то, что небезразлично мне, – не оставляет равнодушными и всех остальных. А дальше – только вопрос художественности.
– Кто ваш читатель?
– Моя аудитория – нормальная городская интеллигенция. Возраст – от моих ровесников, которым сейчас за сорок, до молодежи. Особенно молодым нравится, я заметил, «Козленок в молоке». Да и старшее поколение тоже ко мне неплохо относится. Так что нет у меня такого возрастного ограничения, как, например, у Пелевина. Его читатель, насколько я знаю, человек до тридцати лет. А я, если вы заметили, не заигрываю с поколениями. По своему менталитету я так и останусь человеком советским со всеми его плюсами и минусами.
– В романе «Козленок в молоке» вы пишете, что очень важна первая фраза романа. «Первая фраза в романе – это как первый поцелуй в любви! <…> Он должен быть свеж и ароматен, если он пахнет мятной жевательной резинкой, это – конец, и читатель закроет твой роман на первой же странице». А какой должна быть последняя фраза романа, чтобы читатель захотел вернуться к нему?
– Я, как правило, оставляю открытой концовку. Почти во всех моих вещах – открытый финал, потому что как только ты делаешь такую совершенно закрытую концовку, то замыкаешь художественную систему произведения. Но ведь читателю нужно эту систему самому дополнять. Поэтому у меня открытые и достаточно неожиданные концовки. Обычно в последней главе происходит переворачивание сюжета, и вещь заканчивается не так, как ожидает читатель. Это я, кстати говоря, принес из поэзии. У меня в стихах – я учился этому у Блока, у Заболоцкого – часто была неожиданная развязка.
Когда читатель получает открытую концовку, он начинает думать: а как же все закончилось на самом деле? И прокручивает в памяти всю вещь, чтобы это понять. Это – уже повод к тому, чтобы перечитать. Ну а многим нравится просто какие-то куски перечитывать. Мне, например, несколько человек признавались, что, когда им хреново и хочется немножко развеяться, они перечитывают «Парижскую любовь Кости Гуманкова».
– Почему вы в «Замыслил я побег…» убиваете героя?
– Я его не убил. Он висит…
– А он разве не упадет?
– У нас даже сейчас проблема с фильмом. Мурад Ибрагимбеков снимает восьмисерийную ленту «Замыслил я побег…». И вот не знаем, как в кино сделать последнюю сцену. Потому что в романе Башмаков висит на балконных перилах и думает: «Вдвоем они меня вытащат». А перед ним видение: фронтовик, калека Витенька. Этот персонаж ведь не случаен – это символ победителей, которые выиграли жуткую войну, покалечившись, лишившись всего. И они передали могучую державу-победительницу поколению эскейперов (от англ. escape – побег. – А.Б.). И это поколение эскейперов эту победу профукало. Но как это сделать в кино?
– Объясните, что это за «поколение эскейперов».
– То, которое приходит на смену чересчур перенапрягшемуся поколению. Это люди, которые, в отличие от своих отцов и дедов, не умеют брать на себя ответственность, не умеют принимать решения, не умеют рисковать собой даже не ради государства – ради себя же!
– Вы и себя к эскейперам относите?
– В известной степени.
– А как же тогда объяснить, что в 24 года вы стали секретарем комсомольской организации Союза писателей, в 26 – членом Союза писателей? Это что – случайность?
– Тогда средний возраст членов Союза писателей был 68 лет. А в комсомол принимали до 28. Поэтому нас, молодых, было всего ничего. Мне старшие товарищи поручили руководить комсомольской организацией. Что я и делал. Был членом бюро Краснопресненского райкома комсомола, сидел на заседаниях рядом с нынешним министром культуры Швыдким (правда, сейчас он никому не рассказывает об этом). А первым секретарем Краснопресненского райкома – во многом прототипом моего героя Шумилина в «ЧП районного масштаба» – был нынешний главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.
– Карьеристом можете себя назвать?
– Если под карьеризмом подразумевать стремление сделать карьеру, социально самореализоваться любой ценой, наступая всем на шеи, меняя взгляды, то в этом смысле – я не карьерист. Потому что у меня были прекрасные перспективы, а я в 1986 году ушел на вольные хлеба и пятнадцать лет сидел дома – работал за письменным столом. Хотя меня звали на самые высокие посты, по тем, советским, меркам. Даже в ЦК партии звали. Но я считал, что литература для меня важнее. А когда начались процессы разрушения страны – я ведь считался одним из самых острых писателей, – меня очень любили наши «демократы». Предлагали мне даже стать главным редактором «Красной звезды» – главной военной газеты. Но как только я увидел, что под реформами подразумевается разрушение страны, тут же начал выступать с такими статьями и книгами, что «демократы» меня очень быстро разлюбили.
Так что в смысле «известность – любой ценой» – я не карьерист. Но если карьеризм в том, чтобы добиться успеха в жизни за счет серьезного труда, то я карьерист. Я из рабочей семьи, у меня не было никогда ни связей, ни поддержки. Всегда зависел только от себя самого. На творческий успех я всегда работал двадцать четыре часа в сутки, продолжаю и сейчас.
– У вас потрясающая самоирония. В «Козленке в молоке»: «Кто же тогда мог подумать, что <…> этот пузатый мерзавец через несколько месяцев достанет из стола и опубликует скандальную повестушку «ЧП районного масштаба» и не оставит на комсомоле, вскормившем его своей грудью, живого места!»
– По-моему, самоирония – это признак нормального человека. Это совершенно здоровое качество не только пишущего человека, но и человека вообще. Наши юмористы, например, весьма ироничны по поводу других и чрезвычайно серьезны по отношению к себе. Именно поэтому мне не интересен, например, Войнович. Ехиден по отношению к другим, а смешное в себе абсолютно не замечает. А ирония должна быть обоюдоострой, тогда она интересна и плодотворна. Когда она однонаправлена, то очень легко переходит в зубоскальство и просто глумление. А глумливые книги долго не живут. Долго живут, я заметил, книги веселые и добрые.