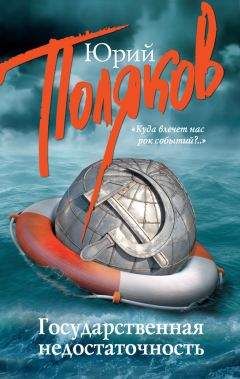Некоторые писатели являются просто фактом истории литературы. Вот, например, был такой поэт Кусиков. Он дружил с Есениным, Маяковский на него написал эпиграмму: «Есть вкусы и вкусики, // Одним нравится Маяковский, а другим Кусиков». Другие становятся фактом литературного процесса – это писатели, которых прочитали один раз и больше никогда к ним не вернулись. Таких много. Самый редкий вариант – когда писатель становится явлением литературы, его книги перечитывают.
Многие писатели уходят вместе со своей культурно-стилистической эпохой. Возьмем предреволюционное время. Потом – революция. Изменились идеология, эстетические предпочтения, стиль. Огромное количество авторов остались там, в прошлом. «Перешли» немногие. Взять хотя бы поэтов Серебряного века. То же самое и у нас: была советская литература со своими авторитетами, но закончилась эпоха, и снова – остались единицы: Платонов, Горький, Булгаков, Зощенко. И от наших дней останутся немногие… Но в конечном счете выигрывает тот, кто переходит из предыдущей эпохи в последующую. Классики переживают несколько эпох.
– Сколько переизданий было у вас?
– К счастью, многие мои книги перешагнули одну литературно-историческую эпоху. Не все… Например, у меня есть такая нашумевшая повесть «ЧП районного масштаба». Она не перешла – ее не перечитывают. (А вот фильм все время показывают.) А «Сто дней до приказа» перешагнула. Эту повесть переиздавали более двадцати раз. Причем только после 1991 года – уже раз семь или восемь. Или, скажем, повесть «Апофегей» тоже постоянно переиздают. Но из вещей советского периода чаще всего переиздают «Парижскую любовь Кости Гуманкова». Читатели ее почему-то любят – раскупают тут же. Из книг, написанных после 1991 года, самая популярная – «Козленок в молоке». Выдержала тринадцать изданий. Это абсолютный рекорд. Такого количества переизданий нет ни у кого. Последний роман – «Замыслил я побег…» 1999 года – сейчас вышел седьмым изданием.
– Кто из современников вам интересен? Кого читаете?
– Если брать поэтов, то это – Владимир Соколов, Николай Рубцов. Из прозаиков – с интересом могу перечитать «Альтиста Данилова» Владимира Орлова. Хороший роман. Советую. Слежу за Юрием Козловым. Считаю его одним из наиболее интересных современных прозаиков.
– А Толстая, Улицкая? Маринина, Акунин…
– Это несамостоятельная литература. Не литература, а коммерческие проекты. Зачем тратить время? Лучше я перечитаю Толстого, Чехова, что-то из классической философии, истории.
– Дочери что советуете читать?
– Серьезную литературу. Современных классиков. Ну не читать же ей женские романы! Вообще я следил за ее чтением, что-то подсовывал.
– Как вы считаете, что первично – проза или поэзия?
– А что здесь считать? Наукой доказано, что литература зародилась из ритмизованного обрядового текста. Поэтому, естественно, поэзия. И вообще, точно так, как зародыш человека проходит в своем развитии все ступени эволюции, так же и литератор должен в своем развитии как бы пройти все исторические этапы становления литературы. Через поэзию прозаик должен пройти обязательно. Если я читаю прозу человека, который никогда не писал стихов, то сразу это вижу. У такого писателя нет некоего мистического ощущения слова. Понимания того, что слово – живое, и, значит, два слова, поставленные рядом, начинают взаимодействовать, как живые существа. Важна поэтому не просто информация, которую несет слово, а эмоционально-семантическая аура вокруг контактирующих слов. Она-то и создает совершенно небывалые ощущения. Наличием этого ощущения и отличается хорошая проза от плохой.
Плохая проза – просто информативна. Тебе сообщают: он вошел, обнял ее и так далее. А хорошая проза в самом рассказе о том, как он вошел и обнял, несет еще колоссальный непросчитываемый многоуровневый заряд.
– Мне показалось, что ваша проза метафоричнее ваших стихов…
– Да… Я был поэтом неплохим. Но без внутреннего парения. Такой очень умственный поэт. А когда, например, Блока читаешь, по коже – мурашки! Я же в стихах всегда выстраивал какой-то силлогизм. Зато в прозе оказался достаточно поэтичным. Проза для меня гармоничнее. Поэзия меня многому научила. Если вы заметили, я прозаический текст строю очень тщательно.
– Заметила… А когда вы поняли, что отношения с поэзией не складываются?
– Я просто понял, что в поэзии достиг какого-то уровня, и дальше у меня нет внутреннего ресурса для развития. Кстати, поэтов-долгожилов очень мало. В основном поэт к тридцати годам свой ресурс вырабатывает. Поэзия – дело молодое. Оно – на гормональном кипении. Поэтому почти все в молодости пишут стихи. Биологическая гиперэнергия, которая дана для продолжения рода, выпускается еще и через интеллектуальный клапан…
– Сублимация?..
– Именно… И становится поэзией. Почему все на первом курсе института пишут стихи, а к последнему курсу один «поэт» остается? Потому что эта самая гиперэнергия уходит – она больше организму не нужна. Правда, у человека одаренного этот заряд может задержаться, но все равно к тридцати годам рассасывается, если ты не исключение… Даже Пушкин не был исключением! Если посмотреть на содержание его собрания сочинений, он ведь в последние годы писал все меньше и меньше стихов. Если бы его не убили, вполне возможно, что он полностью перешел бы на прозу, историографию, драматургию.
Если человек становится профессиональным литератором, его мудрость в том, чтобы найти свой жанр. Потому что нет ничего утомительнее стихов «скончавшегося» поэта. Я знаю десятки людей, которые как поэты умерли в тридцать лет, а им – уже семьдесят! Рука набита, рифмовать умеют… Я, например, так насобачился, что из любого положения могу зарифмовать все что угодно. Но это – уже не поэзия. Это – рифмованные строчки. А люди живут, пишут, книжки выходят. Их никто не читает – потому что читать это невозможно!
– И тогда это уже ремесленники.
– Да, но ремесло, конечно, всегда должно присутствовать. Плохо, что там уже нет вдохновения… Как писал Блок об акмеистах: «Без божества, без вдохновенья».
У меня последняя книжка стихов вышла в 1987 году, в ней были стихи, написанные в основном до 1985 года. То есть мне было чуть больше тридцати. И я понял, что стихи больше не рождаются, они начинают мною производиться. И поставил на этом крест. Занялся прозой, несмотря на то что был уже лауреатом премий, у меня книжки стихов выходили. Получилось так, что моя последняя книжка, которая стояла в плане «Молодой гвардии», не вышла. Я просто пришел и сказал, что не буду больше печатать стихи. А тогда очень тяжело было попасть в план – на меня в издательстве посмотрели как на ненормального. Был дефицит бумаги, и я попросил выпустить вместо моего сборника две-три книжки молодых поэтов. Так и сделали, хотя все очень удивились…
– Что это за история с разгромной рецензией на ваши стихи в «Студенческом меридиане»?
– Было дело… У вас тогда работал теперь покойный Володя Шленский. Ему дали мою подборку стихов, он написал, что все это – ужасно. И это, видимо, соответствовало реальности, поскольку то были ранние стихи, слабенькие. Из них я в дальнейшем ничего не включал в сборники. Все через это проходят. Сейчас я с юмором описал это в эссе «Как я был поэтом», а тогда обидно было, конечно. А позже, в первом номере за 1977 год, у меня вышла большая подборка стихов в «Студенческом меридиане».
– Если я не ошибаюсь, вашим однокашником был Владимир Вишневский. Как вы относитесь к его творчеству?
– Вишневский учился курсом старше и тогда писал стихи в духе Роберта Рождественского. Он был очень серьезным и целенаправленным. Еще со мной на одном курсе учился Тимур Запоев, который стал потом поэтом-концептуалистом Тимуром Кибировым. (Зачем он поменял фамилию! Ведь тот же Николай Глазков, из которого, по сути, и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Запоев».) Он тоже писал очень серьезные стихи под Блока и всегда ходил с томом этого поэта под мышкой. Еще с нами учился Александр Трапезников, сейчас он прозаик – хороший. Я же тогда писал пародии, эпиграммы. Юмористом был я, а потом они стали развиваться в веселом направлении, а я, наоборот, стал писать серьезные стихи. А сатирическое мироощущение вернулось уже в прозе. Но если бы мне кто-то в ту пору сказал, что Володя Вишневский станет знаменитым телевизионным юмористом, я бы очень удивился. Но он, видимо, себя нашел.
– Вы называете свое творчество гротескным реализмом. Что это?
– Гротескный реализм – это термин Бахтина. Он гротескным реализмом называл «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле. А еще говорил, что гротескный реализм развивается на сломе эпох. Например, гротескный реализм Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова. Ведь именно в эпоху слома и столкновений выплывают фигуры, которые в нормальное, ритмичное время появиться просто не могут. Вот, например, такой президент, как Ельцин, возможен только на сломе, или такой политик, как Жириновский, или такой хрюкающий реформатор, как Гайдар. А литература в эти периоды вынуждена искать более яркие, адекватные образы – и появляется гротеск, мощная сатира, невообразимые метафоры, гиперболы. Но, с другой стороны, все это происходит на базе конкретной эпохи. И это – реализм. Вообще, гротескный реализм, по-моему, – самое интересное, что может быть.