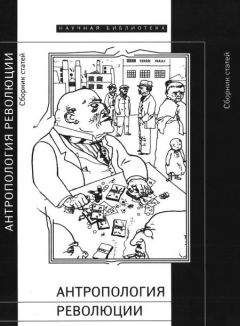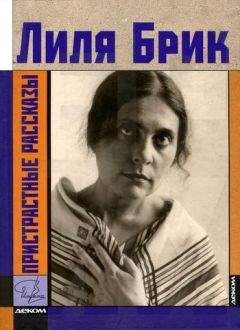Указывая на невозможность художественной реализации этой схемы в крупных вокально-хоровых формах до середины 1920-х годов, Акопян констатирует: до того как были переосмыслены жанры, реализовавшие эту «мифологическую схему», — «опера, оратория и кантата», — таковым жанром ненадолго была признана «особого рода театрализованная „мистерия“ — широко распространенный элемент первомайских, октябрьских и прочих официальных торжеств первых лет революции»[584]. Лишь во второй половине этого десятилетия новая мифология воплощается уже не в массовых публичных представлениях, а в академических жанрах. Среди таких новых произведений можно назвать «Симфонический монумент 1905–1917» М. Гнесина для оркестра и хора на слова С. Есенина (1925), «Траурную оду» памяти Ленина А. Крейна для оркестра и хора (1926), коллективную ораторию Производственного коллектива студентов научно-композиторского факультета Московской консерватории (так называемого ПРОКОЛЛа) «Путь Октября» (1927), Вторую симфонию («Октябрю») Д. Шостаковича с финальным хором на слова А. Безыменского (1927) и его же Третью «Первомайскую» симфонию с финальным хором на слова С. Кирсанова (1929). «Сюжет» этих сочинений, как справедливо отмечает Л. Акопян, сводится к схеме, которую на примере Второй симфонии Шостаковича описала М. Сабинина: «…вначале — темный хаос, символизирующий беспросветное прошлое, затем — пробуждение протеста, созревание революционной сознательности и, наконец, прославление Октября»[585].
Как справедливо замечает Л. Акопян, «по существу, именно эта мифологическая схема стала исходной основой для позднейшего социалистического реализма»[586] в музыке. Повторимся: за этим явственно прочерченным восхождением от мрака Хаоса к свету всемирного Элизиума стоит не только архетипическая со-териологическая схема, но и отчетливый художественный прообраз — все та же бетховенская Девятая симфония.
Если взглянуть на феномен этого сходства с иной позиции, можно сказать, что последняя бетховенская симфония, неоднократно осмысленная преемниками композитора в искусстве (от Вагнера, Мендельсона и Берлиоза до Малера и Скрябина) как начало новой творческой эры для всего человечества, сама легко укладывается в названную сотериологическую мистериальную схему. Признанный к началу XX века безусловным классиком, Бетховен предоставлял наглядный пример того, что такая схема вообще может, а следовательно, с точки зрения пореволюционных советских элит, и должна быть реализована средствами «классического» искусства.
Фактически Бетховен уже в середине 1920-х был выдвинут большевистским руководством на роль «главного композитора» эпохи. Так, например, Н. Бухарин отождествляет будущее общество с образом именно бетховенской симфонии:
…Мы можем с полной совестью сказать: мы создаем и мы создадим такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит «собачий вальс» перед героическими симфониями Бетховена[587].
3
Другая коннотация мотива непокоя получила выражение с помощью интонационных образов бури, шторма, ветра, вихря, метели, вьюги, данных через формулы инфернального движения и основанных на них жанрах скерцо, токкаты, тарантеллы, этюда, perpetuum mobile (представляющего собой особую жанровую разновидность этюда). Таковы некоторые «Этюды-картины» С. Рахманинова и фортепианные сонаты С. Фейнберга, ряд фортепианных сочинений Н. Метнера и камерно-инструментальных произведений С. Танеева.
Интересно, что и в социальной мифологии мотивы «подземных сил истории», по наблюдению М. Вайскопфа, «вовсе не исчерпываются одним только биологическим или вегетативным… проявлением. Аграрный ряд постоянно дополняется „прибоем“, ледоходом, весенним половодьем, живительной „бурей“ и т. п.»[588]. Исследователь называет в числе прототипов этой новой социальной мифологии мятежных древнегреческих титанов, Вулкана и Гефеста, кадавров и гномов, «вагнеровского ариософского титана» и «верхарновского мятежника»[589]. Однако у нее есть и русские корни, что особенно очевидно применительно к мотиву «метели», легко вписывающейся в приведенный Вайскопфом ряд.
Развитие «вихревой», «метельной» образности продолжилось в значительном ряде музыкальных сочинений и в первые годы после революции. Так, исследователь творчества Н. Рославца замечает:
…«Космическая» проблематика… не ушла из творчества Рославца, но продолжала свое существование, видоизменяясь… Впрочем, есть искушение конкретизировать часть образной сферы подобного рода сочинений, например, Третьего квартета (1920), связав ее с образом вьюги, ставшим символом вьюги времени во многих литературных произведениях — от «Двенадцати» Блока до «Доктора Живаго» Пастернака…[590]
Аналогично может быть интерпретирована и Четвертая соната С. Фейнберга (1918), о которой исследовательница пишет: «Эпиграфом к ней могли бы стать строки Блока: „Ветер, ветер — на всем божьем свете“. <…> Тут летопись целого поколения, картина грандиозной бури, разметавшей, разрушившей старый мир»[591].
Композиторы пореволюционного поколения, по-видимому, воспроизводили подобную образность с характерной для нее семантикой далеко не всегда сознательно. Фейнберг, вспоминая процесс работы над первой частью цикла «Три стихотворения А. Блока для голоса и фортепиано» (1923), признавался:
…Тут я не думал, что нужно изображать метель, и, однако, само собой получилось, что в аккомпанементе звуки давали то, что нужно. Это явление меня настолько заинтересовало, что я даже подумал, что здесь уместно применить такие термины, как скрытая программность в отличие от сознательной программности[592].
Сознательно или бессознательно «отголосок мелодического образа бури, созданного там, переносится в следующий романс, что находит оправдание и в тексте („…заносит вьюга на порог / Пожар метели белокрылой“)»[593].
Мифология «метели» явно ориентирована на длительную русскую культурную традицию, трактующую образ народного восстания как стихии, — от пушкинской «Капитанской дочки» до поэмы
A. Блока «Двенадцать». В контексте этой традиции мотив «метели» тесно связан с образом русского «разбойничка», будь то Пугачев или революционно-анархическая вольница в поэме Блока.
Образ «разбойничка» набирает новую силу в послереволюционной музыке. На рубеже 1910–1920-х годов на авансцену художественной жизни выдвигаются образы Стеньки Разина, Емельяна Пугачева, Ивана Болотникова. Приведем только некоторые факты, свидетельствующие о редкой популярности этих имен в искусстве пореволюционного времени.
1 мая 1919 года в Москве на Красной площади был открыт «временный памятник» Степану Разину работы С. Коненкова[594], на его открытии выступил Ленин[595]. Поэма В. Каменского «Сердце народное — Стенька Разин», начатая им еще за несколько лет до революции, в течение 1917–1918 годов неоднократно публикуется в отрывках[596] и полностью[597]. Переработанная в пьесу «Стенька Разин»[598], она к началу 1920-х годов становится одним из особо любимых столичными и провинциальными театрами произведений современной драматургии. В 1918 году эта пьеса, поставленная B. Г. Сахновским и труппой театра Комиссаржевского, стала значительным событием художественной жизни Москвы[599]. Музыку к спектаклю написал крупнейший хоровой композитор тогдашней России А. Кастальский, включив в нее и обработку песни «Из-за острова на стрежень…». В письме Б. В. Асафьеву от 1 сентября 1919 года он свидетельствовал: «Пьеса шла много раз — даже надоела»[600].
Разин нередко оказывался в центре массовых театрализованных действ. В «Мистерии освобожденного труда», поставленной в Петрограде на первомайские торжества 1920 года и ставшей знаменитой благодаря участию в ней выдающихся художников Ю. Анненкова, М. Добужинского и В. Щуко, в бунте «рабов» к римским гладиаторам присоединялись «восставшие крестьяне Стеньки Разина». Не отставала и провинция: летом того же года в Орехове-Зуеве на берегу реки Клязьмы при участии 500 человек статистов (реж. Л. Н. Королев) с большим успехом прошло представление незадолго до этого поставленной в местном театре пьесы В. Каменского[601].
Разин завоевывает подмостки и музыкальных театров. Еще в период работы над первой московской постановкой своей пьесы Каменский «очень уговаривал» А. Кастальского «сделать из нее еще и оперу», о чем Кастальский писал Б. В. Асафьеву в цитированном выше письме. Однако он уговорам поэта не внял: «…либретто недурное — взялся бы, если бы знал наверно, что поставят»[602]. Кастальский сомневался зря — почти все посвященные Разину оперы впоследствии увидели сцену. В 1919 году «Степан Разин» Г. И. Арского (Гизлера) становится первой оперной премьерой в истории далекого Ташкента, а в 1925 году опера П. Триодина под тем же названием ставится в филиале Большого (Экспериментальном театре) в Москве. В 1926 году в Большом зале Ленинградской консерватории был исполнен «Степан Разин» С. В. Бершадского. И лишь опера Ф. Цабеля под тем же названием и написанная приблизительно в том же году в провинциальном Иваново-Вознесенске, где оперного театра не было, поставлена не была[603].