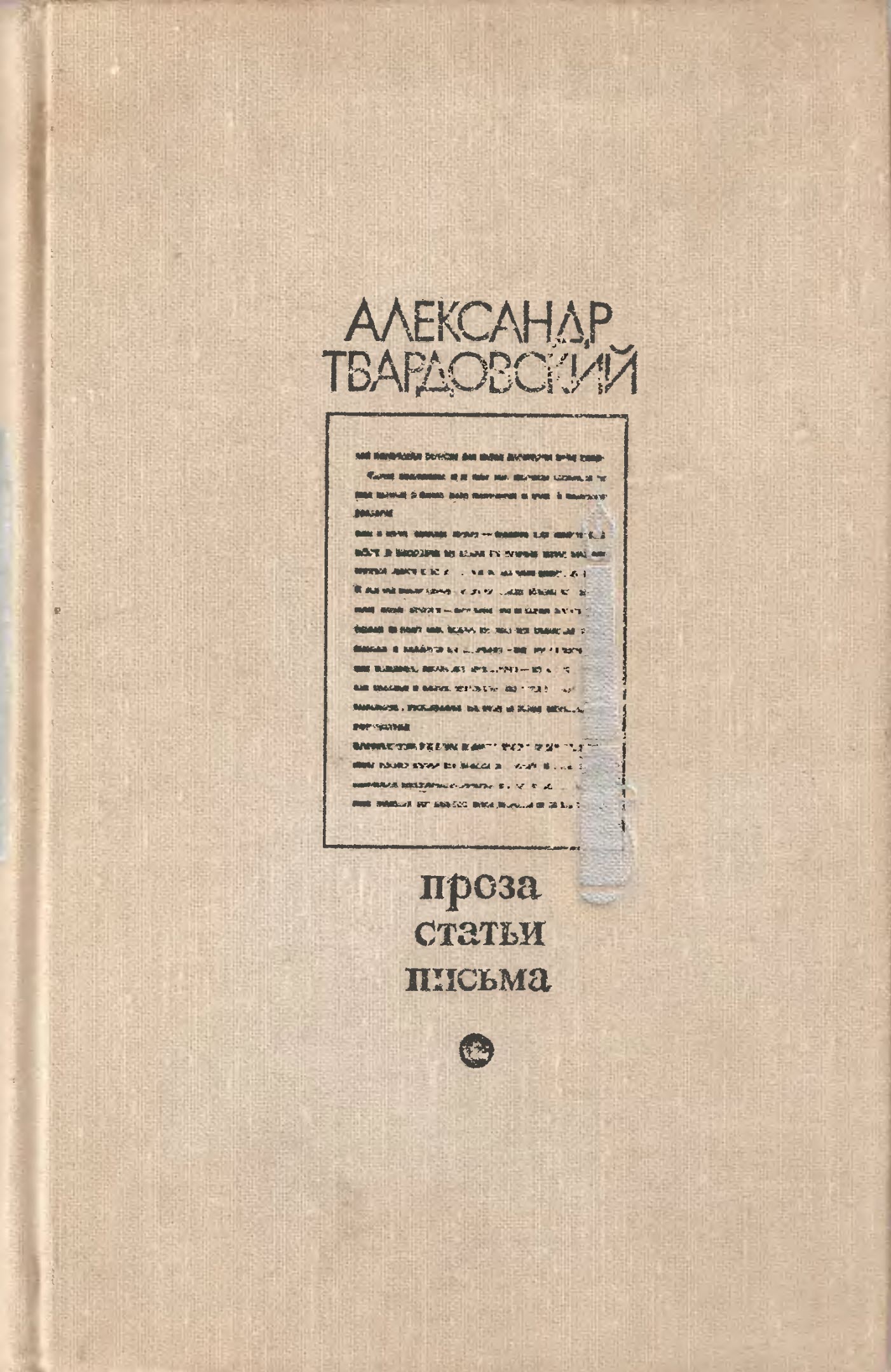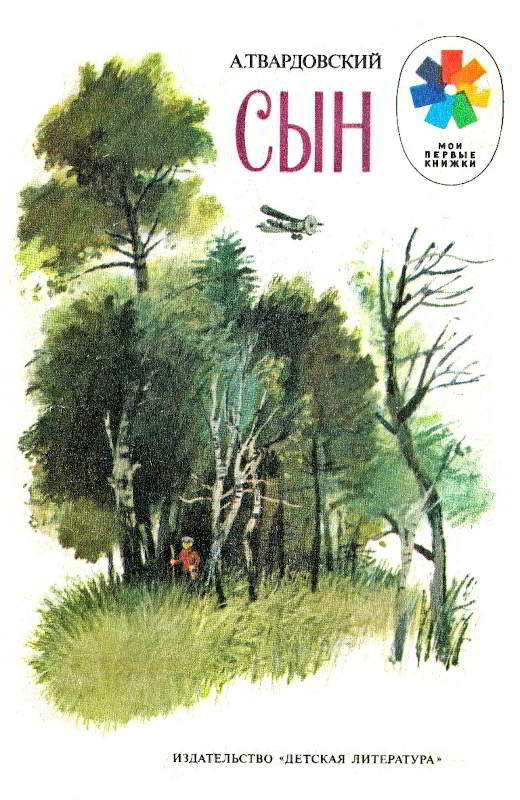то есть счетоводу, только б стравить, а сам он и в драку не пошел бы.
Голубь кричал:
— Дураки! Надо было головы друг другу проломить. Надо было санки посворотить! Он того и хотел, черти дикие!..
29 марта
Обсуждать вопрос о пребывании в колхозе Ерофеева уже не нужно было. Если даже у него были какие-нибудь вольные или невольные защитники, они теперь были лишены малейшей возможности защищать его. «Вычеркнуть, и все», — таково было общее требование, как бы подчеркивающее свою безапелляционность по отношению к «нему».
Я стал закрывать собрание. Меня остановила Саша. Робким, уговаривающим голосом она сказала, сохраняя на лице постоянную озабоченность:
— Граждане, человек в своих кулацких интересах пытался стравить две группы колхозников и хотел таким образом, чтобы одна группа, защищая его кулацкие интересы, побила другую группу. Мы не можем его так отпустить. Нужно в суд.
— Постой, постой. Верно! — засуетился кузнец. — Это ж сто восьмая статья, — соврал он для большей убедительности, а поправить его было некому.
— В Соловки! В Архангельск! — выкрикнул несколько раз Голубь, подбадривая других. Собрание заметно стихло, когда пошла речь о суде и ссылке.
— Граждане, — заговорил Мирон строго и с упреком, — не наше дело, граждане, в Соловки или еще куда. У нас есть народный суд, который и судит. К суду его мы привлекаем, но приговор судебный не мы выносим.
— Ну нет! — закипятился сразу Андрей Кузьмич. — Мы выносим ему приговор и просим выслать его из пределов.
— А что ж?! — поддержали его другие. — Чикаться с ним?!
Гнединцы и лысковцы подходили друг к другу закуривать, как бы для большего убеждения друг друга, что у них между собой все в порядке.
Стали расходиться. Счетовод, оставленный Голубем и кузнецом, сидел, не поднимая головы. Я, щелкая замком и стоя у двери, предложил ему выходить. С улицы слышались голоса, звавшие меня. Тут началась отвратительная сцена. Он начал просить. Не губите его. Дайте ему только справочку. Он сам уедет. Будет работать на строительстве, он исправится…
Я резко прервал его. Тогда он начал ругаться, угрожать, на что-то намекая. Намекал он, видимо, потому, что прямо сказать ничего не мог.
Я позвал сторожа. Сторож поставил на пол фонарь и, тронув Ерофеева за плечо, предложил освободить помещение. Ерофеев представился ослабевшим и не могущим подняться. Я стоял и дрожал от холода — дверь в продолжение всей этой возни была открыта.
Наконец, когда сторож рванул его со скамьи, он встал и засуетился:
— Я пойду, пойду… Я сам…
Сходя с крылечка, он застонал и, взявшись руками за голову, пошатнулся несколько раз и пошел по замерзшей дороге, шаркая валенками в галошах.
— Во! — сказал сторож, закрыв дверь. — Просить не вышло, грозить не вышло, — решил разжалобить!
Мы посидели еще минут десять в канцелярии. Я заметил, что сторож стал как-то свободнее в обращении со мной. Так оно и есть. Пока счетовод имел вес, люди нисколько не доверяли мне. Ведь у руководства, вместе со мной, стоял тот, кто всегда умел устроиться на удобное «письменное» место, кто и германскую войну отсидел делопроизводителем в уезде, кто и в кооперации заправлял, кто и в колхозе сумел удобно устроиться. Люди читали и слыхали слова «классовый враг» и чувствовали в этом что-то натянутое, ненастоящее, потому что эти слова говорил и Ерофеев, которого они ненавидели, по которого нельзя было назвать кулаком, классовым врагом.
Сторож сказал:
— Как же его было назвать кулаком, когда он с семнадцатого года в бога не верил и против религии выступал. Недавно только все узнали, что он не коммунист, а то считали, что коммунист. Когда спрашивали, он отвечал: «Об этом мы поговорим в другом месте…»
2 апреля
С неделю тому назад весну означали сосульки. Теперь весна подвинулась дальше. Крыши очистились от снега, капли есть, но сосулек уже нет. Ночи теплые и темные.
* * *
Ерофеев, говорят, поехал прямо в центр — хлопотать о восстановлении.
* * *
Вечера маленькие — писать помногу некогда.
Часок-другой нужно посчитать. Наслаждение научиться на старости лет тому, чего не умел первую большую половину жизни.
Кладу 385, минус 129, минус 76. Выдумываю всевозможные числа, слагаю, вычитаю, подсчитываю. Смешно, но радостно.
Конец первой тетради
7 мая 1931 года
Экономия Вязовичи пашет четвертый день. Лысково — третий. Гнедино — тоже. На вопрос, сколько вспахали, все отвечают: «Порядочно». Вязовичи жалуются, что плуги не берут закаменевшую на взгорках почву…
Завтра Вязовичи. Отчеты Голубя и Андрея Дворецкого.
8 мая, Вязовичи, участок Березовое поле
Парень злобно заносит плуг на повороте и матюкается.
— Что? — спрашиваю.
— Попробуй — узнаешь что…
— Позволь, — отстраняю его от плуга и высвобождаю запутавшиеся вожжи. С первых шагов чувствую, что плуг удержать нет сил, так успела засохнуть глина!
Объехав раз, останавливаю лошадь на повороте:
— Да-а!..
— Печка, — поддерживает меня парень, довольный, что работу его признали действительно трудной.
— Ты бригадир?
— Я бригадир.
— Фамилия?
— Шевелев.
— Сколько вчера вспахал самый лучший пахарь? Кто самый лучший?
— Да, как сказать, кто…
— Что, хозяин, попробовал? — перебивает нас низкорослая, черноглазая бабенка, взъезжая на заворот.
Бригадир машет на нее рукой, и она, не ожидая его, едет первой. Кое-кому из пахарей, заметно, хочется остановиться с нами на завороте, но бригадир каждому машет рукой, и они проезжают.
— Ну, а сколько вся бригада вспахала за вчерашний день?
— А во-он сколько, — показывает бригадир на вспаханную часть поля.
— Да-а!..
А сколько, — я и сам на глаз определить не могу.
Но как же ставить вопрос о пересмотре нормы выработки на такой пашне, если неизвестно, на сколько недорабатывается существующая норма?
* * *
Голубь орет:
— Сдельщина! А какая сдельщина, когда я на землемера не учился. Пахали вчера,