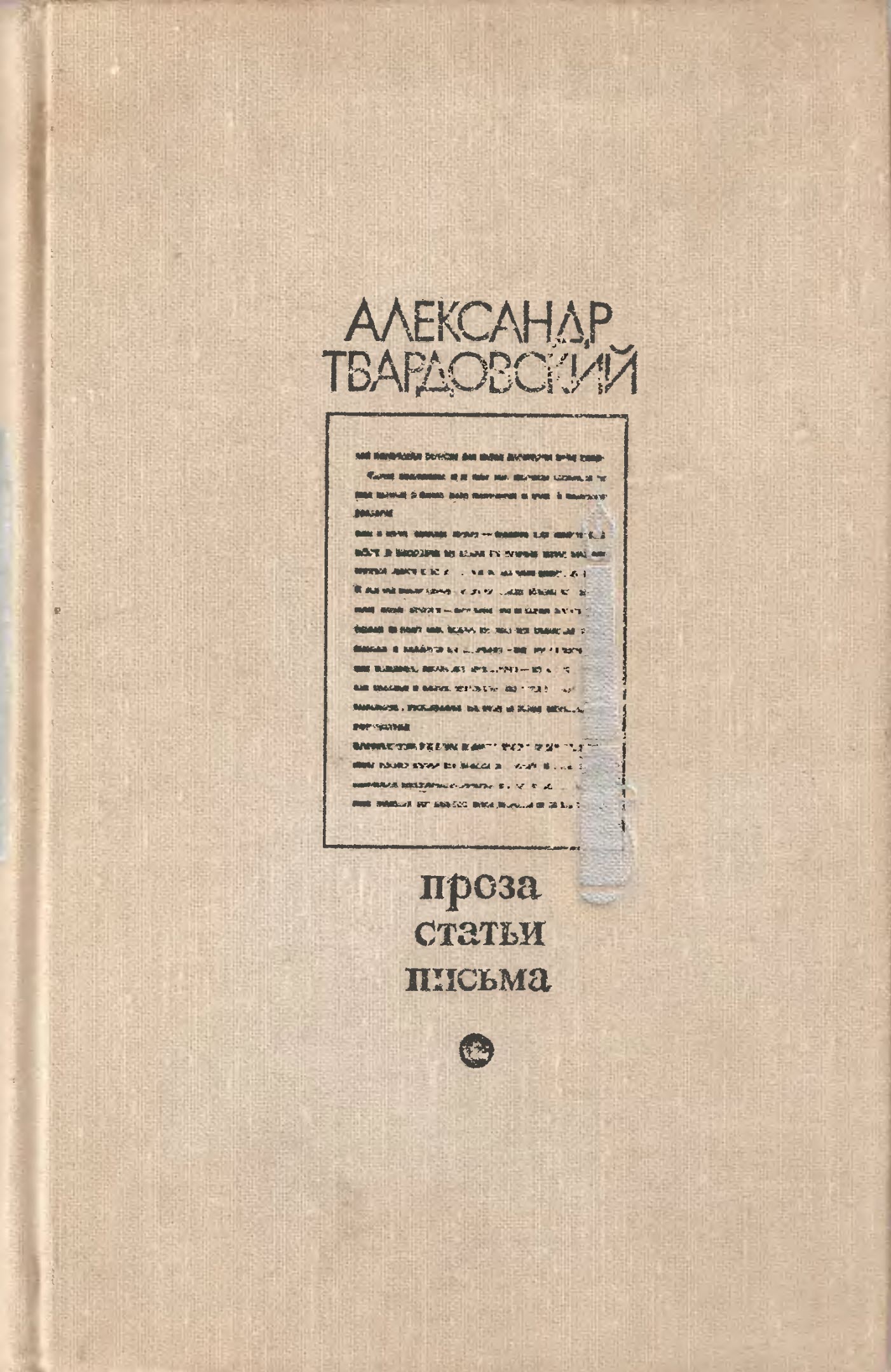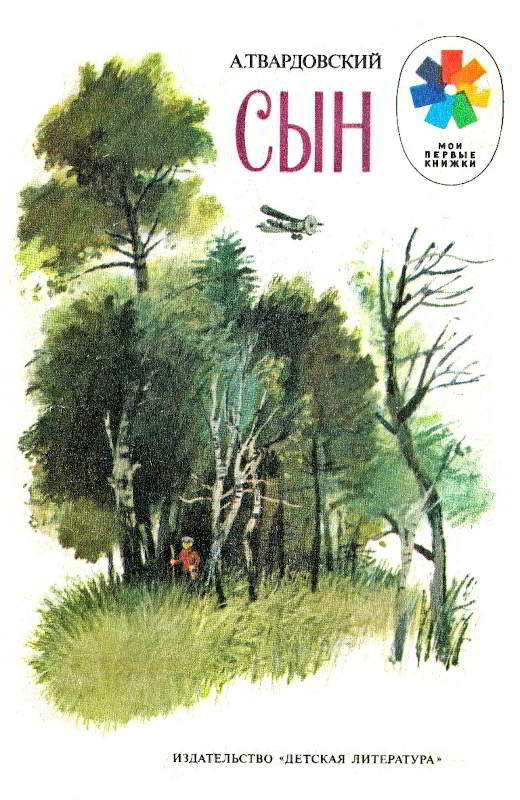пахали сегодня, завтра будем пахать, а сколько в день — черт же ее знает, сколько. Зато мы ударом берем. Ударники!
— Постой, товарищ Голубь! Мы нормы выработки составляли?
— Составляли.
— Какая норма у нас на пахоте?
— Четверть га.
— Так. А знаешь ты, выполняется ли у тебя хотя норма? Мне вот кажется, что не выполняется.
— Не выполняется?.. У меня?!
Голубь плюет с такой силой, словно хочет пробить плевком пол канцелярии.
— Да, у тебя.
— А во чего не хотел?! — показывает мне Голубь.
А я также спокойно:
— Ну чем ты мне можешь доказать, что у тебя норма выполняется?
— Чем, — наступает он на меня, — чем?! Знаем чем! — как-то угрожающе кончает он и уходит, оставив свой серый засаленный шлем у меня на столе.
9 мая
Андрей Кузьмич, умытый и причесанный, идет босиком по стежке через сад, в канцелярию. Под мышкой у него папка — переплет от полного собрания сочинений графа Салиаса.
Он останавливается под окном и, не заходя в канцелярию, раскладывает на подоконнике свои бумажки.
— Ну, что гнединцы? — спрашивает он, кивнув на шлем Голубя.
— Голубь был. Забыл, — поясняю я, хотя он и не то спрашивает.
— Заработался и шапку забыл?
— Да, заработался. Кроют вас гнединцы, Кузьмич. Андрей Кузьмич с минуту смотрит то на меня, то на шлем (не сговорились ли мы), потом притворно зевает:
— Кро-оют?.. Все может быть… — И вдруг оживляется: — Как же это они нас кроют, если не секрет?
— А так. Норму перевыполняют, лошадей не загоняют, пашут ровно, без единого взгреха, — вот как.
— А тот, кто это говорит, нашу норму считал? Лошадей глядел? Взгрехи находил? Вот возьму тебя да поведу сейчас на пахоту — здесь недалеко, и кони рядом ходят. Ты посмотри сперва!..
И Андрей Кузьмич уничтожающе метнул глазами на шлем Голубя, который, как птица, раскинув отвороты» лежал на столе.
А я вдруг ставлю вопрос:
— Норму мы вырабатывали с тобой?
— Вырабатывали.
— Говорили, что еще перевыполним?
— И перевыполним!
— А перевыполняем? А хоть выполняем мы ее!
— Выполняем!
— А чем ты мне докажешь?
— Наличной площадью.
— А сколько ее, наличной площади?
— Я и говорю: иди посмотри.
— Что смотреть, ты мне скажи на словах.
— На словах? Пожалуйста. Верите на словах — пожалуйста. — Он засуетился со своей папкой. — Но я просил посмотреть, чтоб фактически… Вот, пожалуйста.
Я просматриваю его бумажки. Бригада Тараса Дворецкого — восемь человек, 8 мая, две десятины…
— Две десятины?..
— Две десятины!
— Откуда ж ты знаешь, что две?
— Вымерено! Саженчиком! — удало прищелкивает он пальцами, чувствуя, что дело его не плохое.
— Саженчиком?
— Этим самым. Мы по нашей малограмотности, — для большего эффекта прибедняется он, — на метры не понимаем. А мы — саженчиком, саженчиком! Ошибка если будет, так не вредная.
— Ладно, — говорю я, — норма у вас даже перевыполняется. Но как вспахано — я еще посмотрю. — Потом открываюсь ему по-свойски: — Видишь, гнединцы, может, и больше вас делают, но у них плохо с обмером.
Андрей Кузьмич понимающе и снисходительно кивает:
— Так-так…
— Они, собственно, не знают еще, сколько вспахали за три дня.
— Так-так… — кивает Андрей Кузьмич, а сам весь дрожит, сдерживаясь от смеха. И вдруг с самым добродушнейшим, но и торжествующим ухарством махает рукой из-за уха и смеется в открытую: — Ч-чуддак!.. И шапку бросил!.. — Он свертывает свои бумажки и, уже успокоившись, говорит с добродушной назидательностью: — Скажи Голубю, чтоб они вспомнили, как мы луги с ними делили. Мы тогда и учились землю сажнем мерять. Пусть и они вспомнят…
* * *
— Ну, что? — с порога спрашивает вызванный мною учитель.
Объясняю ему положение с обмером обрабатываемой площади, не говоря о бригаде Дворецкого.
— Да, брат, — говорит он. Потом задумывается и «обобщает»: — Мелочь! А из-за этой мелочи соревнование будет не соревнование, а так, договорчики.
— Ну, это ты слишком!
— Нет, не слишком. Как ты можешь проверить показатели? Почему ты думаешь, что гнединцы перекрывают Лысково или Вязовичи?
— Я знаю, какие работники и как работали.
— Допустим, и я знаю. Но чем ты мне докажешь, что гнединцы перекрывают?
— Саженем, — проговариваюсь я.
— Ага! Значит, нужно измерять? А измерять нужно ежедневно, ежедневно!
— В том-то и дело, — раздражаюсь я, — что я сам на землемера не учился, а Голубь или Шевелев — и того менее.
— Придется учиться, — улыбается учитель. Потом встает и начинает на стене, как на классной доске, чертить пальцем, объясняя: — Вот перед нами лежит делянка. Длина и ширина ее разные.
— Разные, — повторяю я.
— Нам нужно что? — спрашивает учитель и сам отвечает — Нам нужно узнать, сколько в этой делянке га. Для большей точности мы длину этой делянки измеряем в трех-четырех местах. Слагаем цифры, полученные от каждого измерения, и делим сумму на столько, сколько раз мы измеряли. Таким образом мы узнаем среднюю длину площади. Так же поступаем и с шириной. Затем умножаем длину на ширину — и дело с концом!
Учитель привычным жестом, как бы от мела, очищает ладонь об ладонь. Механика измерения площадей мне понятна.
Теперь можно будет говорить о нормах выработки на участке Березовое поле.
* * *
Завтра — Гнедино.
11 мая
С утра я пошел на поле, к бригаде Дворецкого. На завороте, пока до меня дошел первый плуг, я с сердцем начал вскидывать комлыжки земли, натасканные плугами на лужок, который будет нынче заказан.
Длинная полоса в пять-шесть метров шириной совершенно загажена.
Тарас Дворецкий первым подъехал к концу обугони и, нахмурившись, стал заворачиваться, будто бы не замечая меня.
— Постой, бригадир!
— Что, бригадир?..
— А вот что, — подкидываю я ногами комлыжки в его сторону. — Вот что! Вот что!
— Наволакивается…
— Наволакивается? А вот со своей полоски наволок бы ты столько? Не наволок бы! Там ты умел вовремя плужок вывернуть и стукнуть, не взъезжая на траву. Там ты умел!..
Бригадир слушает меня и смотрит на приближающегося к концу борозды деда Мирона. За Мироном — бабы. Бригадир готов выслушать какой угодно выговор, сделать все на свете, только бы остальные не слыхали.
— Стой! Куда прешь на людей? — кричит он Мирону, хотя тот еще на порядочном расстоянии.
— А?! — поднимает Мирон руку к уху. — Что?!
— Пошевеливай, вот что! Колупаешь, как сонный…
Старик кончает борозду, медленно поворачивает плуг