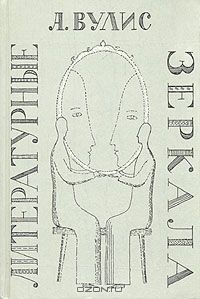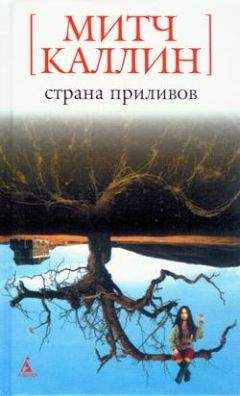Спросите ребенка: «Что ты тут натворил своим карандашом?» И он, не улавливая даже двусмысленной торжественности вашего «натворил», видя в этом глаголе разве что обличительный синоним шалости или проступка, тем не менее с гордым апломбом истинного художника, принимающего каждую свою акцию за творчество, каждый свой опус — за творение, каждое свое «делать» за «творить», ответит вам: «Я нарисовал Таню возле дома — а это Танина собачка…» Любая наша попытка оспорить сходство рисунка с окружающим миром будет нещадно пресечена. Потому что наипервейшая функция искусства, с точки зрения ребенка, «нарисовать так, чтоб было похоже»: воссоздание этого мира, фабрикация подобий, короче говоря, мимесис.
Но именно здесь проявится и другая особенность зарождающейся творческой психологии: стремление отождествлять перетянутую пополам сосиску — с животным, палочки — с девичьими ножками, завитушку — с дымом. Ребенок пользуется для передачи своих представлений теми средствами, которыми располагает. Он пересказывает окружающий мир «своими словами». Что такое в понимании современной науки эти «свои слова»? Определенный тип художественной условности, квалифицируемый в ряде исследований как остранение, как гротеск, как знаковая система.
Что ж, не будем педантами там, где дело касается терминов, а не смыслов. Можно сказать так, можно сказать этак — существо вопроса не изменится. А сводится оно к традиционной для искусства всех времен и народов ситуации: установка художника на мимесис встречается с неизбежным сопротивлением материала. Искусство возникает в преодолении этого противоречия: между «натурой» — и теми красками, кистями и холстами, которыми располагает мастер, между тем, что он видит, и тем, что — по своим субъективным потенциям — замечает, между тем, что замечает — и понимает, думает, хочет, может. А сквозь пеструю, хаотическую, многоплановую картину внутренних и внешних разногласий просвечивает основной конфликт творчества: художническое «я» лицом к лицу с миром, и это же «я» — лицом к лицу с палитрой (включая и закулисную психологическую лабораторию и вполне открытую всем взглядам и бурям производственную мастерскую).
Художественная условность (знак, символ и т. п.) представляет собой компромисс, суммарную тенденцию всех этих разнонаправленных векторов: зеркало идеального искусства трансформируется в знаковую явь искусства реального, но по сюжету этой метаморфозы при каждом удобном случае напоминает нам, что остается самим собой: иногда под видом приема, иногда под видом предмета, иногда в жанре вездесущей симметрии, или могущественного композиционного принципа (картина в картине), или фольклорного намека. Чаще же всего — как общая реалистическая программа: показывать жизнь в форме жизни.
Отдавая должное знаковым теориям искусства, не могу не подчеркнуть их хрупкость и относительность на фоне «подведомственного» им многообразия. На память мне приходит один эпизод (по тому же ведомству: онтогенез повторяет филогенез). Всем русским людям тридцатых — сороковых годов (да и тем, кто помоложе) знакомо название текста, положенного на музыку Д. Д. Шостаковичем, — «Песня о встречном». Некоторые по сей день могут воспроизвести ее строки: «Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня, Страна встает со славою На встречу дня…»
Эта песня стала как-то предметом дискуссии моих школьных товарищей: о каком встречном идет речь, кто он, романтический герой, покоривший сердце кудрявой? Гипотезы выдвигались самые разнообразные, но по главному вопросу царило полное единогласие: и мальчишки и девчонки сходились на том, что это замечательный человек, достойный любви или, по меньшей мере, уважения. И только много лет спустя некоторые из тогдашних мальчишек смекнули, слушая песню по радио, что имеется в виду патетическая подробность первых пятилеток — встречный план.
Быть может, художественный факт сей мало причастен к высшим сферам эстетики, но как нейтральный пример он достаточно красноречив, показывая, что самая многозначность слова протестует против монотонности, навязываемой тексту знаком (когда его возвеличивают не по чину и не по заслугам).
Тем более шатки позиции знака в его теоретической конфронтации с образом. Если уподобить образ актеру, духовно сложной личности, то знак будет рядом с ним чем-то вроде каскадера, приглашаемого ради участия в опасных дивертисментах, аттракционах и переделках — короче, там, где нужны всего лишь манекенное сходство с прототипическим героем да лихая сноровка наездника, ныряльщика или драчуна.
Мимесис не универсален. И в этом смысле уместен предостерегающий возглас Р. Уэллека и О. Уоррена, которые вскользь касаются данной темы в своей «Теории литературы»: «Нужно сказать об одной часто встречающейся ошибке, которой следует избегать. „Образная“ литература не обязательно должна прибегать к образам… Под воздействием Гегеля такие эстетики XIX века, как Фишер и Эдуард фон Гартман, доказывали, что все искусство представляет собой „обоснование идеи средствами чувственного постижения, другая школа… называла искусство „чистым визуальным восприятием““. Но можно указать немало примеров, когда великое литературное произведение не вызывает у воспринимающего чувственных образов, а если и вызывает, то лишь случайно, непоследовательно и неосознанно. Даже изображая тот или иной персонаж, писатель может вовсе не стремиться к тому, чтобы этот персонаж был зримо ощутим. Нам едва ли удастся представить себе многих героев Достоевского или Генри Джеймса, хотя нам понятно их душевное состояние и мы полностью постигаем их побуждения, оценки, мнения, порывы»[71].
Соглашаясь с авторами «Теории литературы» в принципе, оспорю способ аргументации, коим они пользуются: как раз доказательства Уэллека и Уоррена заставляют думать о возможности альтернативных истолкований. Сколь бы мало ни говорили Достоевский или Генри Джеймс о своих героях, эти последние встают перед глазами читателя как живые люди, потому что воспринимающее сознание стремится синтезировать образ по любым, сколь угодно скудным штрихам и намекам. Читатель сам дорисовывает образ своими силами и средствами. Да и возможна ли здесь какая-нибудь дозировка — сколько и каких деталей и подробностей нужно художнику, чтобы создать образ, то есть — в понимании Уэллека и Уоррена — некую чувственную реальность, «фигуру», «лицо» и т. п.? Были бы лишь эти детали и подробности достаточно интенсивны, вовлекая читателя в соавторство (которое с большей или меньшей активностью осуществляется во взаимодействии аудитории с любым значительным произведением)!
Экранизации Достоевского — вот прекрасный пример читательского участия в раскрытии визуальных аспектов и намеков, отнесенных писателем к подразумеваемому.
Но дело не только в читательском соавторстве. Дело в том, что свойства героя, выносимые Уэллеком и Уорреном за «рамки» образа, — «душевное состояние», «побуждения», «оценки», «мнения», «порывы» — являются по большей части образами или комплексами образов, только отражают они другие объекты, не те, что основной образ, и повернуты к нашему восприятию под другим углом. Но одновременно они весьма часто принимают визуальные формы (что и дает возможность Бергману, Феллини или Тарковскому проецировать внутреннюю жизнь человека на экран), а главное — входят в состав основного образа на правах его неотъемлемых граней. Создается впечатление, что Уэллек и Уоррен очерчивают, обособляют, ограничивают образ пространством и меркой «одного зеркала». А все прочее, отразившееся в других (по сути, столь же законных) зеркалах, по их мысли, нечто от лукавого.
Вот и в дальнейшем американские теоретики проводят ту же упрямую линию: «Создавая характеры, писатели в разной степени смешивают традиционные литературные типы вживе наблюденных людей и частицу самого себя (как будто частица самого себя — это не вживе наблюденные люди! — А. В.). Если, скажем, реалист главным образом наблюдает за поведением героя, стремится „внутрь“, то романтический писатель, напротив, выламывается „наружу“. Существенная оговорка: одного искусства наблюдения вряд ли достаточно для создания жизнеспособных характеров. Фауст, Мефистофель, Вертер, Вильгельм Мейстер — все они, отмечают психологи, являются проекциями „разных сторон души и характера самого Гёте“. Подспудные душевные качества самого романиста, в том числе и недобрые силы души, — все они потенциально его герои. „Что у одного человека минутное настроение, то у другого — весь характер“. Какая-то частица Достоевского есть во всех братьях Карамазовых… Когда подспудные черты осознаны и прочувствованы, тогда писатель и создает „живые характеры“ — не „плоские“, а „объемные“»[72].
Справедливости ради необходимо сказать, что Уэллек и Уоррен признают, более того, высоко ценят способность вымысла выполнять миметическую функцию. Так, в одном месте они пишут: «Аристотель считал, что поэзия (то есть эпос и драма) ближе к философии, чем к истории. Это суждение, по-видимому, и по сей день не потеряло смысла. Существует правда факта, ограниченного во времени и пространстве, — это историческая правда в узком смысле слова. Но существует еще и философская правда — правда концептуальная, теоретическая, принципиальная. С точки зрения такого определения „истории“ и „философии“, художественная литература есть „фикция“, вымысел… Убеждение, что литература — обман, удерживается и время от времени смущает серьезного романиста, который отлично знает, что в художественном произведении и меньше путаницы, и больше смысла, чем в „правде“, почерпнутой прямо из жизни».