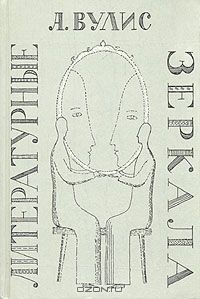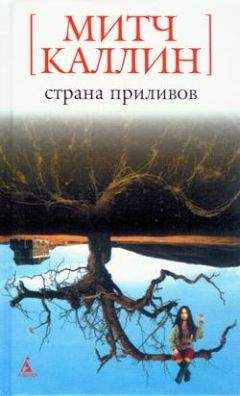Уже в этой постановке вопроса наличествует элемент публицистичности настолько сильный, что в некоторых случаях он становится идейной доминантой. Но публицистика, не довольствуясь малым, рвется наружу: в авторские отступления, в монологи героев, в сюжетные приговоры второстепенным историческим персонажам, которые обретают на этом пути ореол глашатаев идеала или антиидеала. И вновь обрисовывается двучленная конструкция: публицистика, то есть мысль, плюс картина, — органические составные части художественного творения. Публицистика в данном контексте синоним тенденциозности, а тенденциозность использует в качестве основной технологической программы принцип иллюстрирования. «Хорошая» тенденциозность — не та, которую в сердцах клеймят: «Да это же иллюстративность!»
Генетические предпосылки симбиоза «мысль плюс картина» заложены еще античностью, а может быть, даже более ранними культурными формами, когда в устном народном творчестве формировались жанры первичного бытования — от мифа до заклинания и притчи. Притча и являет собой генотип, на основе которого становятся возможными иллюстративные соотношения последующей литературы, вплоть до современной.
Об иллюстративности как о принципе повествовательного искусства можно было бы сказать, перефразируя мысли М. Эпштейна об эссеистике: это и единство, и попытка соединения, но прежде всего это акт творения и обязательно сопутствующий ему акт называния. Человек создан — и создатель говорит: «Се — человек…» Не с восклицательным знаком, который здесь как бы напрашивается, а с многоточием — символом раздумья.
Вероятно, надо избегать оценочных моментов в этом разговоре об иллюстративности исторического романа (как и ранее, когда предметом дискуссии были сатирические жанры). Иначе на нас неизбежно хлынут негативные примеры, образцы той самой «плохой» иллюстративности, коя у всех у нас на виду и на слуху.
И, однако же, в любом случае надо помнить: романист, занявшийся историей, подобен сочинителю акростихов. Он бредет от одной заданной точки к другой, он должен «охватить» и ту начальную букву, и эту, он обязан отметиться и там, и там, и в аэропорту побывать, и на вокзале. Не такая уж завидная миссия.
На сей метафоре, как на некоем зеркальном феномене, отмечусь и я сам, чтоб признать закономерный характер некоторых препон, возникающих перед современным литератором.
От объективного факта никуда не уйдешь: зеркало повторяет жизнь. Значит ли это, что духовные явления, уподобляемые нами зеркалу, тем самым автоматически наделяются попугайными рефлексами? Никоим образом.
Мне близки многие мысли Л. Гинзбург, хорошо показавшей в своей статье «Литература в поисках реальности», что «копировать действительность специфическими средствами искусства вообще невозможно»[74]. Очень точно!
Или: «Присущую всем большим литературным движениям предпосылку обладания истинной моделью мира не следует смешивать с дилеммой воспроизведения действительности. Реальность может предстать как идеальное, дедуктивным способом выведенное из идеальной модели (например, персонажи эпоса и рыцарского романа, или классической трагедии XVII века, или страсти и характеры у романтиков). Реальность (картина мира) может предстать как реальное, как индуктивно устанавливаемое жизнеподобие. Следует, таким образом, различать в их взаимных соотношениях три термина: реальность, реальное, реализм»[75].
Наконец, достоверна предлагаемая статьей концепция реализма как общей миссии всей литературы:
«Литературе не только архаической, средневековой, но и литературе Нового времени долго был присущ повествовательный способ воспроизведения мира внешнего и внутреннего. Потом наступил период все нарастающей тенденции изображения внешнего мира (сцена, описание, диалог), объяснения и анализа — внутреннего; таков реализм XIX века. Поток сознания — новый подход, попытка не рассказать о внутреннем мире, не объяснить его, но непосредственно показать его, описать — подобно внешнему… Но в литературе непосредственно показать внутренний мир, как, впрочем, и внешний, неосуществимо; между миром и писателем — читателем стоит всемогущий связной — слово»[76].
У Л. Гинзбург нам ни разу не встретится «зеркало» или хотя бы «отражение» — и это при условии, что ее работа — вся, от начала до конца, обращена к симметрии (или, вернее, асимметрии) показываемого и показанного. «Копия» — вот слово, с помощью которого исследовательница обозначает натуралистическое подражание действительности (да и точность термина «натуралистическое» она к тому же оспаривает). Эта осторожность, переходящая временами в настороженность с превышением необходимого предела обороны, понятна. «Зеркало» привязывает исследовательскую мысль к буквальному жизнеподобию как к обязательному условию искусства — в самом понятии зеркала содержится эта подразумеваемая предпосылка. А цель Л. Гинзбург (если я правильно ее понимаю) противоположная: установить различия между правдой и фактографией.
К тому же зеркало — зависимая, меняющаяся вслед своему объекту копия. Искусство же дает произведение — копию застывшую, независимую, отказывающуюся регистрировать дальнейшую динамику жизни.
Вернусь к одной процитированной фразе. «Всемогущий связной — слово» разделяет и соединяет у Л. Гинзбург мир искусства и мир реальности. Единственный, по-моему, случай, когда исследовательница дает себе волю и прибегает к картинному сравнению. Но случай весьма характерный. Есть зависимости в эстетике, которые можно изъяснить только при помощи тропов.
На мой взгляд, зеркало — такой же «всемогущий связной», правда, другого уровня, того, на котором видения художника еще не облеклись в слова и краски.
Современная филология начинает все активнее выяснять, каковы творческие возможности зеркала. Многое, кажется, уже сделано итальянцем Умберто Эко, о чем информирует свою аудиторию «Иностранная литература» в № 7 за 1986 год: «…Сборник его эссе „О зеркалах“ адресован тем, кто не может осилить его научные труды, но хочет познакомиться с Эко-ученым… Читателю суждено узнать немало интересного: например, знак ли зеркало и зеркало ли знак. И как можно снискать себе славу, всего лишь правдиво излагая факты (в чем преуспел Плиний Младший), а также увидеть то, чего на самом деле не было, но о существовании чего все было доподлинно известно (сие удалось Марко Поло). Есть тут эссе и о плохо написанных превосходных книгах — ирония в том, что именно так оценили некоторые критики единственное художественное произведение Эко — знаменитый роман об эпохе средневековья „Имя розы“… — и эссе о физиогномике, и о театре (ранее ученый исследовал изобразительное искусство, архитектуру и кинематограф как семиотические системы), и о времени в искусстве, и о фантастических „параллельных мирах“, на которых, по мнению исследователя, зиждется в значительной мере литература вообще».
Перечень проблем, занимающих итальянского ученого, угол его «захода» на эти проблемы убеждают в долговечности старой истины: когда идея назрела, у нее появляется много глашатаев.
Сколь ни различны концепции Л. Гинзбург и Умберто Эко, сколь ни полярны их терминологические и принципиальные посылки, сколь ни самобытная личность стоит в каждом случае за каждой теорией — но говорят Умберто Эко и Л. Гинзбург об одном и том же: о хитроумном Одиссее-мимесисе и об удивительных превратностях его путешествий и приключений в безбрежной вселенной искусства.
Патент на открытие мимесиса выписан, впрочем, столь давно, что даже современникам Иешуа и Пилата должен был представляться немыслимо давней древностью, реликвией доисторических эпох.
Теперь, перелистав труды по эстетике и поэтике, мы можем вернуться к исходной метафоре «искусство — зеркало жизни». Вернуться обогащенными, но вместе с тем разочарованными, взволнованными (столько рискованных подъемов и спусков, неожиданных поворотов и традиционных дорог!), но вместе с тем успокоенными (не было в этом путешествии пропастей, сверхъестественных феноменов и глухих тупиков — так, одна очевидность!). Вернуться с тем, с чем ушли: «Искусство — это зеркало жизни». Да, это метафора, но такая метафора, в которой истины больше, чем в тысячах и тысячах математических трактатов.
И тут нам — в который уже раз — вновь открывается философская глубина знаменитого рассуждения о Льве Толстом как о зеркале русской революции: «Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно. Но наша революция — явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях…