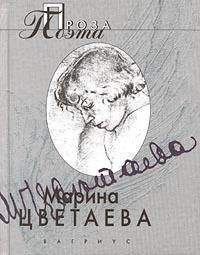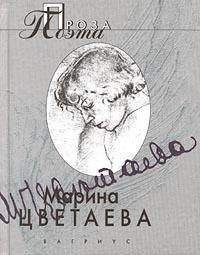Мне худо сейчас, Марина, я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам, — Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной — вы, Володя, мой Юрочка — даже граммофон — я не говорю о Шопене и «Двенадцатой рапсодии», — когда со мной Тот, которого я не знаю еще — и которого никогда не встречу.
Я могу жить с биением пульса 150 даже после мимолетной встречи глазами (им нельзя запретить улыбнуться!) — а тут я одна: — меня обожают деревенские девчонки — но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала: как они тоскуют, одинокие, — ведь даже телеграммы не ходят! — Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете — почему я сегодня в тоске.
Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог с бабой:
Баба: — Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку?
Соня: — Да.
Баба: — Тот, что в белых брюках?
Соня: — Да.
Баба: — А что же ты с ним не в одной избе живешь?
Соня: — Да он меня прогнал. Говорит, больно подурнела, — а вот папиросы набивать велит — за тем и хожу только, а он другую взял.
Вечер того же дня.
Баба ловит Вахтангова и говорит:
— Что ж ты жену бросил, на кого променял? Ведь жена‑то красавица, — а кого взял? Не совестно? Живи с женой!
Ночь того же дня.
Я мою лицо в сенях. Входит Вахтангов:
Софья Евгеньевна, что вы — ребенок или авантюристка? — и — рассказ бабы
Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним.
Это пустое все. Марина, пишите, радость моя — пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас. Письма к Г — ру — и пусть Володя тоже. Что он?
Марина, увозят вещи — надо отнести письмо — не забывайте меня. Прошу, умоляю — пишите.
О, как я плакала, читая ваше последнее письмо, как я люблю вас. Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и — если б можно было поцеловать — ваш обворожительно — легкий голос.
Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. Мой граммофон, — где все это?
Ваша С.
5(Последнее)
1 июля (20 июня старого стиля) 1919 года.
Заштатный городок Шишкеев.
— Марина, — вы чувствуете по названию— где я?! — Заштатный город Шишкеев — убогие дома, избы, бедно и грязно, а лес где‑то так безбожно — далеко, что я за две недели ни разу не дошла до него. — Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу.
По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая, Марина. Такая нежданная радость — ваше письмо. Боже мой, я плакала и целовала его и целую ваши дорогие руки, написавшие его.
— Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи:
…И кончалось все припевом:
Моя маленькая!
— Такое изумительное стихотворение. —
— Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий, — так все шумит, что я не могу думать. —
Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Леванович едет в Москву — и мне сроку полчаса. — Марина, умоляю вас, мое сердце, моя Жизнь— Марина! — не уезжайте в Крым пока, до 1–го августа. Я к 1–му приеду, я умру, если не увижу вас, — мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас.
— Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте — я не знаю, что еще сказать.
Люблю вас больше всех и всего и — что бы я ни говорила — через все это.
— Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо, — презираю отца, сына и его бездарную любовь к «некоей замужней княгине», — огорчена, что Володя не пишет, по — настоящему огорчена. —
Сердце мое, Марина, не забывайте меня.
Ваша Соня.
Дневник пишу для вас.
По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе:
Целую вас — через сотни
Разъединяющих верст!
Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму, — говорит, это не дело. Еле умолила.
Целую
Молюсь за вас.
P. S. Против моего дома церковь, я хожу к утрене и плачу.
Соня.
После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось — я вдруг приказала себе поверить, что — ничего особенного, что в ее окружении — все такие.
Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все‑таки — как будто — нет, совершенно так же, как за неимением папиросы машинально суешь себе в рот — что попало длинного: карандаш — или зубную щетку — и некоторое время успокаиваешься, а потом, по прежнему недомоганию, замечаешь, что — не то взял.
Студийцы меня принимали, по следу Сонечкиной любви, отлично, сердечно, одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой — в какую‑то другую деревню… мы несколько раз с ней встретились— но — она была русая и голубоглазая — и вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем ни при чем. Это была — моя знакомая. Моя чужая новая знакомая.
Как в книге — «продолжение следует», здесь продолжения — не следовало.
Продолжение следовало — с Володей, наше продолжение, продолжение прежних нас, до — Сонечкиных, не разъединенных и не сближенных ею. Казалось бы — естественно: после исчезновения между нами ее крохотного физического присутствия, нам эго крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг другу, восполнить, восполнить— собою, то есть просто сесть рядом, оказаться рядом. Но нет — как по уговору — без уговору — мы с ее исчезновением между нами — отсели, он — в свой далекий угол, я — на свой далекий край, на целую добрую полуторную Сонечкину длину друг от друга. Исчезнувшая между нами маленькая черная головка наших голов не сблизила. Как если бы то, с Сонечкой, нам только снилось и возможно было только с ней: только во сне.
Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден.
— Это — больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и автор. Больше, чем мне можно сказать… Когда‑нибудь, когда расстанемся… — Марина Ивановна, прочтите Мартина Идена, и когда дойдете до места, где белокурый всадник на белом коне — вспомните и поймите — меня.
Девятнадцать лет спустя, девятнадцать с половиной лет спустя, в ноябре 1937 года, иду в дождь, в Париже, по незнакомой улочке, с русским спутником Колей — чуть постарше тогдашнего Володи.
— Марина Ивановна! А вот книжки старые — под дождем — может быть хотите посмотреть?
Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден.
Теперь — пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только мечтой и памятью, что я то Володино завещание — забыла.
Но — так просто войти в лавку и спросить Мартина Идена?
Как Володя когда‑то пришел в мою жизнь — сам, как все большое в моей жизни приходило само — или вовсе не приходило, так и Мартин Иден должен был прийти сам.
Так и пришел— ныне, под дождем, по случайному слову спутника.
Так и предстал.
Мне оставалось — только протянуть руку: ему, утопающему под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона!)
В благополучной лавке — нового неразрезанного Мартина Идена, любого Мартина Идена, очередной экземпляр Мартина Идена — было бы предательством самого Володи, тройным предательством: Джека Лондона, Мартина Идена и Володи. Торжеством той la Chose Etablie*, биясь об которую они все трое жизнь отдали.
А так — под дождем — из‑под брезента — в последнюю минуту перед закрытием — из рук равнодушной торговки — так это просто было спасением: Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его, действительно, рукой — выручила.
И вот, в конце этой бессмертной книги — о, я того белокурого всадника тоже не искала, и даже не ждала, зная, что предстанет — в свой срок на своей строке! — в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна одиночеству в уже двенадцатый его час в мире… — видение белого, но не всадника: гребца, пловца, тихоокеанского белолицего дикаря стойком на щепке, в котором я того белокурого всадника (никогда не бывшего, бывшего только в моей памяти) — узнала.
Девятнадцать лет спустя Мартин Иден мне Володю — подтвердил.
Однажды я читала ему из своей записной книжки — 3<авад>- ского, Павлика, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли, прочее — и он, с некоторой шутливой горечью:
— М. И., а мне все‑таки обидно— почему обо мне ничего нет? о — нас? о — нашем?