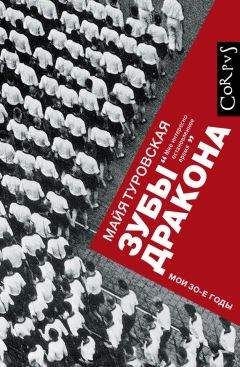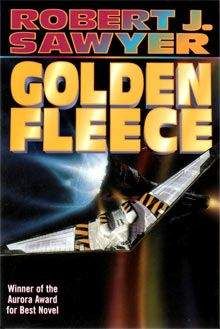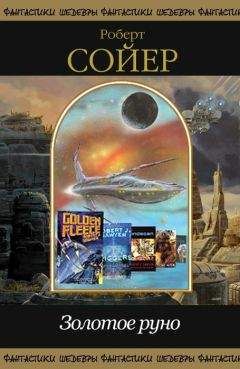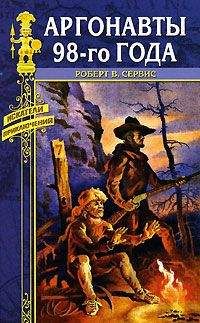Смена лиц, а также объема бедер и бюстов, длины ног и юбок, демонстрации мускулов или интеллекта на экране повсеместны и неотвратимы, как мода и погода. Все же идеологические установки вносили в нее свои императивы.
Феномен звездности на дореволюционном русском экране был зависим от высокой литературной традиции. Были на экране актрисы и получше Веры Холодной, но именно она дала лицо образу грешной и чистой страдающей красавицы в интерьерах и туалетах стиля модерн (заметим, что равновеликого ей образа «вамп» русское кино не создало). Мужской «салонный» герой (И. Мозжухин, В. Полонский) также восходил к театральному амплуа «неврастеника». Пореволюционное коммерческое кино сохранило приверженность этому типу «правильной» красоты, зато авангард предложил новую концепцию не только кино в целом, но и киноактера. «Видимый человек» должен был стать воплощением собственно визуального медиума, а не словесности, овладев всеми физическими возможностями своего аппарата от акробатики до мимики на крупных планах. Напомним хотя бы о выучениках авангардных школ, например, мастерской Льва Кулешова (В. Фогель, С. Комаров, Б. Барнет, А. Хохлова), которые составят актив самой «коммерческой» студии «Межрабпом»; или о протагонистах ФЭКСов (П. Соболевский, С. Герасимов, Е. Кузьмина). Не только их эксцентрика и углубленный психологизм не будут востребованы «великим советским кино» сталинской эпохи, но и сама их сложность, обратимость, сама острая индивидуальность их лиц окажется в излишке. Вопиюща судьба неповторимой клоунессы экрана Александры Хохловой, вынужденной уйти в педагогику (кстати, и Инну Чурикову на время отлучали от экрана как «некрасивую»). Но и вполне задавшаяся карьера Сергея Герасимова как режиссера не искупит актерскую невостребованность экраном его двусмысленного, лицедейского «отрицательного обаяния». И меньше всего это будет связано со звуком.
Рубеж 30-х (и звук не в последнюю очередь) изменит приоритеты мирового экрана: он станет повествовательным, актерским, общедоступным. Но вторая сталинская революция внесет в него свои акценты. Действительно, трудно переоценить значение визуального движущегося изображения в полуграмотной стране, вступившей на путь ускоренной индустриализации и урбанизации. Именно кино возьмет на себя воплощение партийных идеологем в общедоступных сюжетах, жизнеподобном антураже и актерских типажах (то, что потом назовут соцреализмом). А так как первым постулатом эпохи был класс, то и лицом экрана 30-х должно было стать лицо класса-гегемона. Место эксцентрического актера во всех его ипостасях займет актер характерный. Прототипом «пролетарского» лица экрана 30-х (Н. Крючков, П. Алейников, Б. Андреев, Н. Боголюбов) станет Максим Бориса Чиркова.
Два Максима – Эраст Гарин и Борис Чирков.
А ведь Чирков не сразу стал героем «Юности Максима». Проштудировав двести мемуаров и написав десять вариантов сценария («Большевика» – первоначальное его название – бывшим ФЭКСам не доверили), Козинцев и Трауберг начали снимать в заглавной роли знаменитого мейерхольдовского артиста Эраста Гарина, для которого ее и писали. Фотографии сохранились: рядом с Максимом – Гариным, задумчивым и чудаковатым, его веселый приятель Дема – Чирков. Только нечаянно – за полгода незапланированного простоя, пока Гарин был занят, – оказался открыт как ожиданное лицо экрана «зам Максима» Чирков. В поворотные моменты история берет ответственность на себя и искомая истина рож дается из случайностей, недоразумений и совпадений.
К концу 30-х «пролетарские» лица настолько заполонили экран, что, когда Ф. Эрмлеру для фильма «Великий гражданин», навеянного убийством Кирова и политическими процессами Большого террора, понадобился отрицательный типаж квазиоппозиции, оказалось, что найти потенциальных носителей бородок и пенсне в духе первого поколения революционеров не так-то просто. Режиссер долго искал главного «двурушника», а найдя, с трудом уговорил сниматься премьера бывшего МХАТа-2 Ивана Берсенева, некогда блестящего исполнителя Петра Верховенского в спектакле МХТа «Николай Ставрогин», – таких «дореволюционных» лиц в кино давно «не носили».
Дело, разумеется, не только в овале лица или форме носа: прототипом всех «пролетариев» на экране был Николай Баталов в хрестоматийной «Матери» В. Пудовкина. Между тем на сцене МХАТа он блистательно сыграл французского Фигаро, а его племянник Алексей Баталов, с очевидными чертами семейного сходства, стал в постсталинском кино олицетворением чеховского героя. Дело, стало быть, еще и в социальном заказе.
Коэффициент социального заказа особенно заметен в женском экранном типе этой эпохи. Всякий кинематограф, даже «пролетарский», нуждается в своих красавицах, поэтому интегральная звезда сталинского кино Любовь Орлова в ореоле своих умений дурашливо притворялась в голливудоподобных мюзиклах Александрова Золушкой, чтобы стать Принцессой, а барышня-крестьянка Марины Ладыниной в деревенских мюзиклах Пырьева лихо гоняла на тракторе (сакральный предмет эпохи) или на мотоцикле. Впрочем, им не уступала Зоя Федорова в ролях девушки next-door[323].
Прошедшая война внесла изменения в эту устойчивую кинономенклатуру. «Поколение лейтенантов» потребовало на экране более молодых и, как минимум, более интеллигентных лиц (Владлен Давыдов во «Встрече на Эльбе», Павел Кадочников в «Подвиге разведчика» – он, кстати, прямой предшественник Штирлица). Тем более интеллигентные лица понадобились для квазизаграничных, хотя бы и антиамериканских лент «холодной войны». Их пришлось искать по сусекам, в том числе занимать у театра (впоследствии «заграничные» лица будут брать из Прибалтики). Вокруг этих картин сложилась своя актерская труппа. Парадоксальным образом, лучшие актеры будут приглашены на роли «худших» – врагов. Выученики условного театра (Р. Плятт, С. Мартинсон, М. Штраух, А. Вертинский, наконец) способствовали театрализации этих лент.
Сценография в свою очередь способствовала их театрализации (два десятилетия спустя она вернется в мировое кино уже как осознанный прием очуждения). Хотя действие этих картин было современно, обратимость времени-пространства на экране позволяла превратить их в «обстановочные» подобия исторических лент: пространственная дистанция успешно заменяла временную. Сколь можно и сверх того режиссеры предпочитали интерьеры замков, вилл, покоев (даже если это квартира коммунистки Ганны Лихты), антураж дипломатических и светских приемов, вечерних туалетов, имевших не много соответствия в бытовом опыте зрителя. Это были не только публицистические, но и «псевдозаграничные» ленты. Не забудем, что ленты «про заграницу» выходили на экран на фоне собственно заграничных. Иные из ударно идеологических нацистских лент – например, известный «Трансвааль в огне» – легко вписывались в контекст фильмов «холодной войны» на правах антианглийского исторического полотна. «Поколение лейтенантов» выбирало «Девушку моей мечты» с Мариккой Рёкк, а поколение «детей войны» – Сару Леандер и Тарзана.
Разумеется, на фоне заграничного проката идеологические конструкты «холодной войны» выглядели особенно бутафорскими, и часть интеллигенции (немалая), отпавшая от официоза, не строила иллюзий (именно в это время можно говорить о расщеплении вкуса на официозный, экспертный и массовый).
И все-таки что-то, кроме желания снимать, отразилось же в этих лентах, остановивших внимание американского киноведа. Позволю себе высказать гипотезу, возникшую, когда изменившийся социально-политический контекст снял идеологическое напряжение между фильмом и зрителем и открылась возможность за условностью их формы разглядеть латентную информацию, которую они содержат, оценить их отношения с реальностью своего времени по другой шкале.
Парадоксальным образом, именно коэффициент фальсификации, идеологической и эстетической, делает фильмы «холодной войны» достоверным автопортретом общества ждановской поры.
Фрейдистский анализ кино любит оперировать сексуальными символами. Меж тем в рассматриваемых картинах мы имеем дело с проявлением своего рода социал-фрейдизма.
Феномен социал-фрейдизма свойствен искусству тоталитарного типа в целом. Каким бы непогрешимым ни считало себя утопическое сознание, в нем работают мощные механизмы вытеснения и замещения. Так, отмененная религия была замещена культом вождей и сакрализацией идеологии (см. «Триумф воли»). Вытеснению и замещению подлежали целые слои общечеловеческих или христианских ценностей в пользу социалистических (социалистический гуманизм, например).