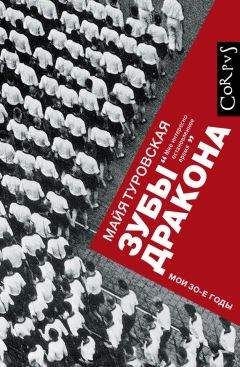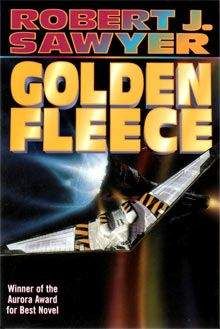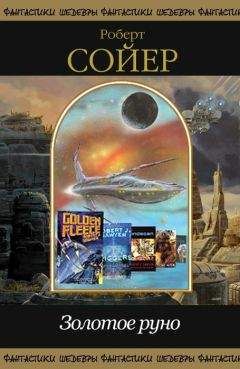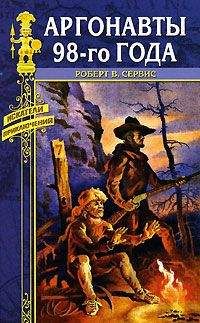При этом ни грана той живой жизни, не говоря о юморе, которыми были полны деревенские персонажи «Члена правительства», не пробивалось ни у кого, даже у прекрасной актрисы Софьи Гиацинтовой. Она так и проходила весь фильм как плакат Матери-Родины. Роль Сталина Чиаурели, как всегда, доверил Михаилу Геловани.
Но кульминацией фильма оказалась встреча Сталина с трактором. Коль скоро эротика была радикально редуцирована в кино 30-х, а точнее, вытеснена и замещена в духе вышеуказанных фрейдистских символов, то эту встречу можно считать лучшей квазисексуальной сценой советского кино[318]. Когда очередной представитель народа демонстрировал вождю на Красной площади первый советский трактор, первенец не желал заводиться, капризничал, и тогда вождь, оседлавши трактор, совершал искомое чудо: он как бы оплодотворял трактор своей мужской силой, тот трогался и торжественно объезжал площадь.
Естественно, что фильм-апофеоз заканчивался апофеозом же на советском «небе», все в том же сакраментальном Кремлевском дворце, на заседании Верховного Совета, где присутствовали Представители народов, а также Мать во главе уцелевших членов Святого Семейства.
Мужское, патерналистское – оно же сакральное – начало оставалось таким образом доминантным в советских фильмах, где Женщина, самая эмансипированная в мире, побеждавшая соперников-мужчин, признанная как «трудовая единица», тем не менее выступала как пассивное, исполнительное начало по отношению к высшей воле Отца народов.
Таковы были особенности одного из основополагающих советских женских мифов, где не было места двусмысленным соблазнам femme fatale и эротики, а патриархальная семья если и разрушалась с эмансипацией женщины, то коллективистски восстанавливалась на уровне единения в государстве-религии.
Возвращаясь к феминистской или «лингвистической» критике, сознаюсь: меня впечатлили иные ее методологические достижения. Еще более обрадовали эмансипация критики от обслуживания искусства и обретенное ею чувство равноправия.
Но все же, кончая эти беглые заметки, я не могла не вспомнить: в условиях объявленных классовых ценностей и советского эмансипированного поклонения вождю – без опоры на ценности общечеловеческие – как мы могли бы выжить?
И не стоило ли нашим коллегам-феминисткам хотя бы ретроспективно присмотреться к суровому опыту советской трудовой эмансипации, прислушаться к прямому, транзитивному языку женщин, ведущих диалог с самой радикальной действительностью, взглянуть на «женский вопрос» и в этой перспективе?
И не только потому, что «равноправие женщин… начинается с забитого холодильника и морозильника», как справедливо заметила Розалин Ялоу, нобелевский лауреат, ибо «эмансипация – это равенство возможностей»[319]. Но еще и потому, что, даже обеспечив гипотетическое равенство возможностей для всех своих враждующих меньшинств (в том числе для женского большинства), человечество окажется перед грозной загадкой себя как целого, как биологического вида, столь же стремящегося к выживанию, как и к самоистреблению, и далеко не равного своему самоопределению: homo sapiens.
Фрейд и кино, или Фильмы «холодной войны»
В основу этой статьи положен доклад, подготовленный мною в цветущее время «перестройки» для кинофестиваля Mystfest в местечке Каттолика в Италии. Фестиваль, впрочем, охватывал не только фильмы детективного жанра, новейшие и старые, но и жанр в более широком смысле, от презентации новых книг до публичных встреч с бывшими руководителями таких разведок, как американская и израильская. Не говоря об остроумном и элегантном дизайне на всей территории бывшего рыбачьего поселка, превращавшего его в хронотоп детектива.
Вписанная в эту раму ретроспектива американских и советских фильмов времен отодвинутой тогда в прошлое «холодной войны» занимала в программе смыслообразующее место: она маркировала конец ставшего привычным биполярного мира. Она обнаруживала, сколь биполярность упрощает (чтобы не сказать упорядочивает) картину мира и сколь исчезновение демаркационной линии делает дискурс любой власти относительным – функцией не столько идеологии, сколько интересов.
Советская часть ретроспективы, которой я «заведовала», – «Русский вопрос» (1947) и «Секретная миссия» Михаила Ромма (1950), «Встреча на Эльбе» Григория Александрова (1949), «Заговор обреченных» Михаила Калатозова (1950), «Серебристая пыль» Абрама Роома (1953), – была невелика по количеству, но отменно фальшива. Даже поклонники советского кино вряд ли вспоминают эти фильмы. Каково же было мое удивление, когда мой американский коллега, профессор Уильям Эверсон из Нью-Йорка, историк и знаток американского кино, сказал, что он поражен масштабом и качеством – так сказать, «голливудскостью» – этих лент; и хотя американских антисоветских картин существенно больше, они куда второстепеннее и в сравнение с каким-нибудь «Заговором обреченных» явно не идут. Правда, он тут же предложил моему вниманию в виде американского аналога «Встречи на Эльбе» «Берлинский экспресс» (1948) Жака Турнера, но приоритетов это не меняло. Понятно, что подобное экспертное мнение не могло оставить меня равнодушной. В частности, оно послужило стимулом дополнить и расширить старый опубликованный текст и предложить его вниманию читателя, хотя он и выходит за рамки 30-х годов, оставаясь, однако, в пределах «сталинской эпохи».
Группа антиамериканских фильмов «холодной войны», относящихся к позднесталинскому или ждановскому периоду нашей культуры, – может быть, худшее, что в ней было. Они клали предел надежде, что после войны СССР так или иначе войдет, как теперь говорят, «в мировое сообщество», и увековечивали «железный занавес». Едва ли их создатели могли себя обманывать. С обманом зрителя тоже стало труднее: как-никак советская армия побывала в Европе, встретилась с союзниками. Однако их создали лучшие режиссеры и смотрели зрители. Сделаем поправку на годы так называемого «малокартинья» (1949 год – 18 фильмов, 1950-й – 13, минимум пал на 1951-й – 9 фильмов). Все же выдохшиеся идеологемы едва ли могли объяснить их витальность, о которой говорил американский критик. По-видимому, секрет ее лежал в некой иной плоскости, нежели профессиональный цинизм.
В своем докладе я исходила из предположения, что никакой самый грамотный взгляд не обеспечивает исчерпывающего описания фильма, поскольку даже самый примитивный фильм является многослойной структурой, содержащей разные уровни информации, в том числе латентной, обнаруживающей себя лишь во взаимодействии с меняющимся социально-политическим, бытовым и психологическим контекстом, иначе говоря, во времени истории. Как бы тенденциозен (или наоборот) ни был режиссер, он запечатлевает гораздо больше аспектов времени, чем думает и знает, начиная от уровня техники, которой он пользуется, и кончая идеологическими мифами, которые ему довлеют. В частности, в советском госмонополистическом кино соответствия между заказом – в буквальном, практическом смысле слова – и интенциями художника столь неоднозначны, что ярлыки любого толка рискуют угодить впросак. Предметом моего анализа в данном случае стали поэтому не столько фильмы сами по себе, сколько их отношения с подвижным контекстом времени.
Короткий отрезок, когда фильмы «холодной войны» выходили на экран, был в высшей степени агрессивным: жестко идеологизированным и жестоко репрессивным. Если в 1939 году во время переговоров о пакте Молотов – Риббентроп Сталин передал Гитлеру через его личного фотографа Гофмана, что он не допускает евреев в искусство (что, впрочем, не отвечало действительности)[320], то через десять лет это станет программой действий.
Странным образом, все началось с театральной критики. Так как в это время я кончала Театральный институт, а мать моя была доктором-педиатром, то для меня этот процесс, описанный в ряде мемуаров и исследований как время «кампании космополитов» и «дела врачей», что было по сути синонимами антисемитизма, – домашние воспоминания, иногда трагикомические.
Помню, как к нам пришел в гости критик Ефим Холодов с женой. Они с моим мужем вместе воевали под Сталинградом, а теперь, ввиду начавшихся «чисток», Холодов заведовал сразу двумя отделами критики: в журнале «Театр» и в «Литературной газете». Как лицо, облеченное ответственностью, он пытался объяснить мне необходимость диалектического подхода к деятельности «разоблаченного» уже И. Юзовского (самого блестящего из театральных критиков). Мы ругались беспощадно и в два часа ночи посадили гостей на такси. А рано утром пришли газеты: на первой полосе Холодов (в скобках Меерович) в свою очередь объявлялся «космополитом». А значит, «Известия» сходили с печатного стана в двух кварталах от нас как раз в разгар нашей баталии, и теперь, держа газету в руках, мы хохотали до упаду, хотя и понимали далекоидущие последствия такого обвинения. Холодов, как и прочие «космополиты», не только лишился работы, но вся семья подверглась местному остракизму окраины (они жили в Измайлове). Впрочем, и в писательском доме на Лаврушинском у Юзовского (с которым позже я познакомилась и подружилась) было не лучше: в квартире неделями не звонил телефон, ареста можно было ждать каждую минуту (он так и не случился). Впоследствии меня тоже уволят из Радиокомитета, куда я поступила после института, в числе прочих лиц нежелательной национальности…