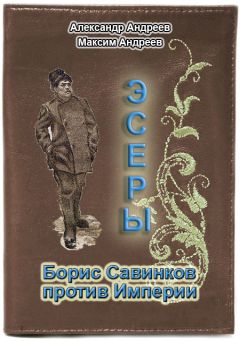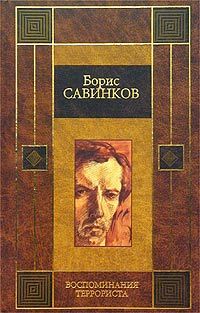Лысоватый мыслитель читал эсеровские материалы о том, что против самодержавия восстали все слои населения, хотя и сам знал это по собственным ссылкам и тюрьмам. Его интересовало, как дочь генерала, стрелявшая в минского губернатора и полицмейстера и знаменитая левая эсерка, описывала состав арестованных в московской Бутырской тюрьме и Нерчинской каторге:
«Партии пересыльных, почти все административные, без суда, шли и шли со всех концов России, все в большем и большем количестве. Каждая партия на несколько дней останавливалась в Бутырках и шла дальше, а ей на смену уже в этот день приходила другая, третья, без конца.
Кого только эта населеннейшая гостиница в мире в те дни не видела в своих стенах. Беспечные молодые рабочие и учащиеся с фуражками набекрень, кричали, вдохновенно шагали огромной толпой по длинному двору из конца в конец с флагами и громким пением революционных песен и через день шли дальше и Нарымский и Туруханский края с громкими прощальными криками: «До свидания, товарищи, в свободной России!»
Степенно и молчаливо расхаживали по тюрьме бородатые крестьяне в пестрядинных рубахах, взятые прямо от сохи. В их глазах было жадное любопытство, задумчивая и таинственная сосредоточенность. Никакое приветствие не было так трогательно, как их молчаливый поклон.
Там и сям на тюремном дворе мелькали чиновники, потертые пожилые люди неопределенной профессии, откормленные господа с брюшками, даже священники. Приходили целые партии кавказцев, певшие горловатыми дикими голосами «кавказскую марсельезу». Прошел даже один казачий офицер, и как гордилась им тюремная толпа. Прошел один глухонемой рабочий, сосланный за агитацию на заводе в Архангельскую губернию. Без конца сыпались остроты по адресу тех, кого все ненавидели.
Заключенные делились на партийных – эсеров анархистов и эсдеков, беспартийных и невинноосужденных. Больше всех было влиятельных в народе социалистов-революционеров, большей частью террористов.
В каторжном быту соблюдалась заповеданное старыми поколениями борцов за свободу: товарищество, принципиальность, соблюдение при гнете от тюремной администрации революционного человеческого достоинства. Для этого был свой настоящий устав, не писанный, но оттого не менее вечный. Конвойные и тюремщики, серьезно распропагандированные, говорили, что им тяжело идти в партии, так как в партиях «не позволяют ни пьянствовать, ни в карты играть, ни в дома терпимости ходить».
Неписанный устав в тюрьме не позволял подавать прошения о помиловании, давать бить себя и товарищей без протеста, петь «Боже царя храни», не позволял фамильярничать с властями и пользоваться привилегиями, если их не было у других товарищей. Существовал отказ и полное воздержание от употребления водки, карточной игры, драк и разврата с уголовными женщинами. Большинство в тюрьме и на каторге быстро начинало понимать моральную привлекательность революционного устава, тем более что с ним считалась и тюремная администрация.
Впрочем, не все тюремщики были распропагандированы. Жестоким кошмаром прошли два первые дня и ночь после нашего неудачного покушения на губернатора Курлова. Побои, раздевание до рубашки, десятком городовых, жестоких и наглых, их издевательства, плевки в лицо под одобрение приставов и околоточных. Они подходили к дверному окошку, со смаком плевали в него и виртуозно-изощренно ругались. Мое избитое лицо, с затекшим глазом, с запекшейся кровью, доставляло им живейшее наслаждение, и даже жандармские офицеры провозглашали: «Как изволите поживать, ваше превосходительство». Приходили в камеру только для того, чтобы плюнуть в упор в лицо, так как через дверное окошко редко могли попасть в цель.
Нерчинская каторга за два века накопила в своих стенах неисчислимое количество человеческих слез и крови. Каждый камень и бревно в тюрьме, облипшие заразой, грязью, клоповником и брызгами крови от розог, вопили о безмерном страдании человека без надежды на другой конец, кроме смерти.
На Акатуе мы встретили партию мертвецов-каторжан, идущих с Амурской колесной дороги, символ человеческого правосудия и защиты государства от виновного или кажущегося им виновным члена общества. Эти шедшие с Амура назад за негодностью к работе люди были не только грязны, босы, с ног до головы покрыты вшами, коростой и болячками. Они все были тяжело больны, не дышали, а хрипели, не говорили, а сипели, и все до одного были убиты духовно. Амурская колесная дорога, шоссе, прокладываемое через болота и непроходимую тайгу, без средств и орудий производства, не одетыми, голодными и закованными в кандалы людьми на протяжении тысячи верст, – яркий пример превращения труда в пытку и надругательство над человеческим телом и душой. Так фараоны строили свои пирамиды. Это шоссе устлано трупами, кости людских скелетом могли бы заменять там щебень и камни. Каждый год русские тюрьмы слали партии за партией на Амур, и редкие счастливцы выходили оттуда обратно, хотя бы и покалеченными, а невредимыми – почти никто никогда. С человеческим материалом там не церемонились. Если этот материал пытался опротестовать ужас своей жизни и обороняться, то не было меры истязаниям и надругательствам над этим материалом. За побег расстреливалась вся десятка, где был беглец, причем для меньшей траты патронов девятку оставшихся ставили в ряд, стараясь винтовочной пулей пронизать весь ряд. Пуля, удачно пробившая два-три спинных хребта, часто застревала в следующей спине, и опять с проклятиями заряжалась винтовка.
Часто в чем-нибудь виновного ослушника раздевали до гола и привязывали к дереву, где скоро тучей начинала виться мошкара и насмерть заедала обезумевшего от пытки человека. Если казнимый снимался с дерева через час, то все равно его снимали уже помешанным.
В Алгачинской тюрьме политические заключенные принимали яд или разбивали себе голову об стену. Если заключенный приходил к доктору с просьбой полечить страшно загноившуюся от врезавшихся колючек от розог спину, то получал ответ: «не для того пороли».
После 1907 патриархального года настроение в сторону репрессий и удушения вольного духа на всей каторге стало сгущаться, приезжавшие из центра товарищи рассказывали о происходивших там ужасающих избиениях, расстрелах, порках. Царское правительство в России с 1907 по 1917 год целых десять лет занималось физическим истреблением пленных революционеров. Система полного удушения в централах и арестантских ротах была доведена до совершенства. Все было задергано и изнасиловано. Протесты не помогали, вызывая только жестокие усмирения. Самоубийства приветствовались, а при неудаче вызывали телесное наказание. При голодовках протеста заключенные просто умирали.
Попытки к побегу жестоко карались. Побег из Екатеринославской тюрьмы, когда тут же на тюремном дворе было застрелено и заколото двадцать девять заключенных товарищей, другие трагически-неудачные побеги из тюрем, обагренные кровью десятком убитых товарищей, только лишний раз заставляли содрогнуться всю страну ужасом бессильного безмолвного гнева и скорби».
Высоколобый мыслитель сам потерявший повешенного любимого старшего брата, хорошо знал убийственную жестокость самодержавия, и судьбы бывшей правящей российской династии была им давно решена. Его очень интересовал феномен эсеровского террора, так сильно повлиявшего на приближение и победу революции. Он взял материалы об отправке в Сибирь на каторгу семерых знаменитых женщин-террористок: дворянки Лидии Езерской, ранившей могилевского губернатора Н.Клингенберга, мещанки Фрумы Фрумкиной, пытавшейся перерезать горло жандармскому генералу в Киеве, крестьянки Анастасии Биценко, застрелившей бывшего военного министра и генерал-адъютанта В.Сахарова, работницы Марии Школьник, ранившей черниговского губернатора А.Хвостова, дворянки Александры Измайлович, ранившей минского губернатора А.Курлова, дворянки Марии Спиридоновой, застрелившей советника-карателя Г.Луженовского:
«Первые дни нашей дороги из Москвы в Сибирь нас встречали на станциях только маленькие группки – еще не знал, но очень быстро наш путь превратился в настоящее триумфальное шествие. Получалось, будто не осужденных везли под контролем на каторгу, а мы сами ехали по тысячеверстному пути с целью собрать ряд демонстраций и шествий и произвести таким образом смотр революционным силам, который дал блестящие результаты.
В Сызрани во время прохода нашего тюремного поезда стоял целый поезд солдат, едущих с Дальнего Востока домой. Они огромной кучей слушали нас, отвечая соответствующим гудением. Несколько раз старшие чины пытались их разогнать, но они стеной стояли перед нашими окнами. В их глазах самым популярным актом было, конечно, убийство Сахарова, поэтому Биценко они встретили долгим несмолкаемым «Ура».
То, что было в Кургане, прямо ошеломило нас своей грандиозностью. Из всех железнодорожных мастерских поспешно выбегали закопченные рабочие и с приветственными криками бежали к нашему вагону и огромной черной толпой, как один человек, кричали: «Да здравствует Спиридонова!»