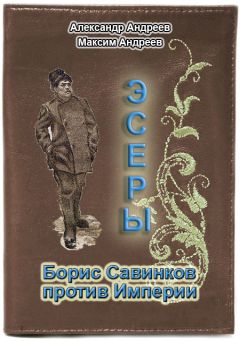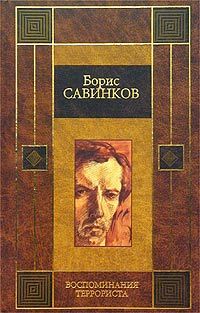В Сызрани во время прохода нашего тюремного поезда стоял целый поезд солдат, едущих с Дальнего Востока домой. Они огромной кучей слушали нас, отвечая соответствующим гудением. Несколько раз старшие чины пытались их разогнать, но они стеной стояли перед нашими окнами. В их глазах самым популярным актом было, конечно, убийство Сахарова, поэтому Биценко они встретили долгим несмолкаемым «Ура».
То, что было в Кургане, прямо ошеломило нас своей грандиозностью. Из всех железнодорожных мастерских поспешно выбегали закопченные рабочие и с приветственными криками бежали к нашему вагону и огромной черной толпой, как один человек, кричали: «Да здравствует Спиридонова!»
Над огромной двухтысячной толпой громом падала песня «Отречемся от старого мира», развевались красные знамена, на которых можно было разобрать «В борьбе обретешь ты право свое». Начался грандиозный митинг. Говорила Спиридонова, как всегда удивительно легко, просто и сильно, выразительно музыкально. Говорили социал-демократы, взволнованно и страстно.
Протягивали к нашим зарешеченным окнам бесконечные коробки с конфетами, апельсины, печения, газеты, цветы без конца, деньги. Курганская демонстрация, очевидно, встревожила кого следует, и наш вагон перед большими станциями начали отцеплять от поезда и после его прохода быстро промахивать станцию. Первый такой опят был в Омске, но не удался.
Наш вагон остановили в восьми верстах от Омска. Когда наш вагон на всех парах прикатил в Омск, там стояла толпа рабочих тысяч в пять. У наших конвоиров потребовали всех нас выпустить на площадку вагона. Одна за другой выходили мы, отвечали на приветствия, говорили, называли себя, свое дело и принадлежность к партии эсеров. Всех нас вызвали на площадку и фотографировали: мы на лесенке вагоны, около нас только полковник, струсивший конвой и восторженная толпа.
Эта омская фотография была потом широко распространена по всей России. Наш вагон отцепили от поезда и еще десять верст везли руками. Мы давали тысячи автографов со своими фамилиями и террористическими актами каждой. Только через шесть часов мы остались одни в вагоне, сплошь завешенном и заставленном гирляндами и букетами цветов.
После Омска наш вагон отцепляли перед большими станциями и для охраны пригоняли целую роту солдат с офицером. На всех остановках, когда солдаты окружали наш вагон со всех сторон, мы все время разговаривали с ними и усердно их агитировали. Вероятно, поэтому их часто меняли.
На станциях распускали ложные слухи, что мы уже проехали. Люди расходились и нас маршей провозили насквозь мимо уже пустой станции. Обман, правда, удавался не всегда. Иногда толпа не шла на обман и упорно не расходилась. Нас, наконец, провозили без остановки, но наш вагон рабочие спускали с рельс.
Тяжелая встреча была в Красноярске. Громадная толпа, стиснутая многими солдатами и жандармами, глухо волновалась. Начались речи, какие речи! Призывы к борьбе среди тысяч горящих глаз. Толпу оттиснули и поезд тронулся. Толпа прорвала цепь и с криками побежала рядом с вагоном. С рабочими бежали солдаты с тупыми зверскими лицами и били их прикладами. Мы бессильно из-за решеток смотрели на эту дикую травлю.
Никогда не забыть Ачинска. В час ночи, как будто электрическая искра подняла нас на ноги. «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Я слышала эту песню десятки раз. В Ачинске мы слышали такую удивительную, рыдающую скорбь и великую, трагическую красоту, что она властно подхватила нас и унесла высоко-высоко над землей в царство великой скорби. На тускло освещенной платформе перед нашим вагоном стояла группа из пятнадцати человек и пела, а мы, прильнув к решеткам, слушали их.
Перед Иркутском мы стояли на полустанке около суток с ротой солдат вокруг, как всегда. Обман не удался, и под вечер, уже в сумерках, к нам из города пришла целая компания молодых эсеров, устроивших пикник на рельсах среди леса. Мы стояли у окон вагона, они перед окнами. Беседовали, пели хором. Они научили нас петь: «Беснуйтесь тираны, глумитесь над нами, и стыд и страх и смерть, вам, тираны».
Они страшно хотели пить после долгой дороги, и мы послали им с конвойными ведро холодной воды, кормили их бутербродами и конфетами. Такая роль хозяек за решеткой понравилась и нам и нашим гостям, и конвойным без конца бегавшим туда – назад с угощениями.
Помню станцию Зима, опять таки полустанок за ней, где нас остановили. Кругом глушь и тишина. Вдруг свисток паровоза. Резко останавливается примчавшийся поезд. Перед нашими окнами, как из-под земли, вырастает группа возбужденных, радостных рабочих. Со смехом рассказывают, как забрали себе целый поезд и уехали из-под носа жандармов. Мы выступаем, нас слушают с жадным вниманием. Они уехали так же шумно и весело, как и приехали. У Зимы все сто рабочих были арестованы поездом с солдатами. Остальные железнодорожные рабочие, узнав об аресте своих делегатов, всей массой пошли к месту их ареста требовать освобождения. Требование полицией было исполнено, освобожденные и освободители устроили на обратном пути настоящую демонстрацию.
По всему Забайкалью встречали Марию Спиридонову. Террорист, объявивший беспощадную войну всему, что не давало жить, дышать, расти просыпающемуся народу соединялся в ее лице с мученицей и страдалицей за этот народ. Как террорист, она шла в первых рядах, рядом с теми, кто должен был своими трупами проложить дорогу вперед, и несла в своей груди ту новую силу, которая не совсем понятна и страшна для двух третей народа. Но он была не только гордым мстителем за страдание народа. Она, как и он, придавленный, замученный вековым угнетением, до дня выпила горькую чашу унижения. Далеко не для всех еще был понятен тот огненный гнев террориста, что поднимал его руку «как будто бы все-таки на человека». Но муки были для всех понятны. Соединенные с силой и мощной красотой духа, они должны были вызвать и вызвали целый океан обожания и поклонения.
Ее имя стало знаменем, объединившим под своею сенью всех, кипевших святым недовольством: социалистов-революционеров, социал-демократов, кадетов, просто граждан. Она принадлежала не только к партии социалистов-революционеров, но и всем им, носившим ее в своей душе, как знамя своего протеста. Как люди приветствовали ее – нет у меня красок описать это. Каждая остановка днем, вечером, ночью – люди стучали в окна и будили нас – восторг толпы до самозабвения. Десятки и сотни тысяч людей везде выражали свою любовь к ней, осыпали ее и нас цветами. Рабочие протягивали в окна пятаки, дамы снимали с себя кольца, солидные господа часы: «Для них, для барышень, для их товарищей на каторге». Помню монашку, которая принесла дивный букет цветов с трогательной запиской: «Страдалице-пташке от монахинь».
Между нами и конвойными быстро устанавливались простые непринужденные отношения старших товарищей к младшим. Полковник быстро убедился, что ни ему с двенадцатью солдатами бороться против тысячных толп. Конвойные просили встречающих пропускать вперед эсеров: «Потому барышни больше уважают социалистов-революционеров». А они вообще старательно соблюдали наши интересы. Мы им читали вслух газеты и революционные брошюры, беседовали с ними. В дороге мы узнали об убийстве адмирала Чухнина и отпраздновали его вместе с конвоем, везшим нас на каторгу.
Полковник усиленно хлопотал о смене конвоев. Мы часто ходили к новым конвойным в их отделение и разговаривали часами: о том, за что каждая из нас идет на каторгу, о том, что делается в России, о Думе, о терроре, о социалистах-революционерах, о социализации земли, с этими мужиками в шинелях.
На полустанках обычно устраивались для нас прогулки. Мы бродили по лесу в сопровождении конвоя и возвращались в свой вагон с полными руками цветов. Мы ими украшали вагон внутри и решетки снаружи. Впоследствии конвойные писали нам на каторгу, что стали «партийными людьми». По России летел наш каторжный вагон в цветах, а на остановках перед окнами вырастало волнующееся море голов – все лица направлены в нашу сторону, все глаза горят одним огнем, во всех голосах звенит и переливается одно чувство. А внутри клетки-вагона – мы, шестеро барышень, спаянные одной идеей, идущие одной дорогой к одной цели. На станции грандиозные митинги, демонстрации, теплые товарищеские беседы, полные молчанья скорбные рыданья. Мы были у окон и днем и ночью, по первому зову встречающих.
В Сретенске, в конечном пункте железной дороги, нас навещала местная интеллигенция и окружала самыми трогательными заботами. Мы узнали, что нас везут в Акатуй.
Сретенцы дали нам в дорогу две вместительных повозки и весь Сретенск высыпал на улицу, когда мы торжественно, в тарантасах, двигались в сопровождении моря солдат. Нам махали шапками, поминутно через конвойных передавали цветы, консервы, конфеты, деньги. Рабочих не было, преобладали солидные господа, нарядные барыни, гимназисты.