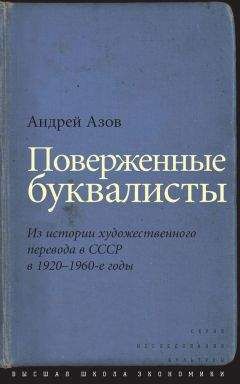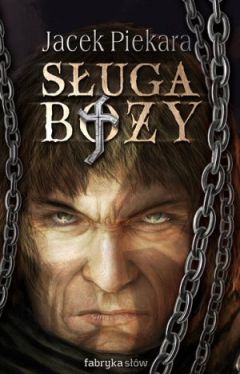За малым дело стало!
Если бы опасность рецептов автора статьи ограничилась только этим, было бы не страшно. Здравый
смысл всех и каждого восстал бы против того, чтобы переводчик шел за И. Кашкиным и «ставил себя на место автора», ибо, читателю, приступающему к чтению Бальзака, право же, неинтересно знакомиться с творчеством икса или игрека. Для читателя переводчик не может и не должен быть соавтором, он – мастер, воплощающий чужое произведение в той форме, какой требует иная языковая основа. Кое-кому при этом может показаться, что задача, стоящая перед переводчиком значительно проще задач, разрешаемых автором оригинального произведения, именно потому, что переводчик трудится над словесным воплощением чужой мысли и чужой эмоции. Но это не так. Сложность этой задачи именно и обуславливается принадлежностью текста третьему лицу – автору. Каждому, кто, хотя бы когда-нибудь, проходил школу оригинального творчества, знакомы «муки творчества». Это состояние часто приводит к желанному концу – автор находит такое воплощение своих замыслов, которое его удовлетворяет. Но нередко бывает и так, что от автора, невзирая на все его усилия, ускользает желаемый результат – мысль или эмоция не находит необходимых средств выражения. В этих случаях автор – хозяин своего замысла – волен выбрать любые пути для развития или описания любой сцены, для ведения любого диалога или повествования. Но у переводчика нет выбора, текст ему дан и никакие трудности для перевода текста в иную языковую систему не могут освободить его от решения этой задачи. Такая задача бывает сложна не реже, чем задача автора текста, но именно эта трудность так прельщает нас в искусстве переводчика, требуя от него не только овладения всеми выразительными средствами своего языка, но и прекрасного знания языка чужого. Это подлинно высокое искусство, однако существенно ошибаются те, кто не усматривает разницы между психологией творчества переводчика и психологией творчества оригинального автора.
При этом надо с особой силой подчеркнуть: ни психологически, ни технологически перевод художественного произведения качественно ничем не отличается от перевода публицистического произведения. Речи крупного политического оратора, статьи больших публицистов ставят перед переводчиком те же задачи, что и романы Флобера. В политических речах и в публицистике налицо все те же стилевые элементы: сложные синтаксические конструкции и фразеологические обороты, ритмическое разнообразие периодов и каденций, фрагменты пародийного стиля, лексическое богатство – от идиом до провинциализмов, разнообразие средств поэтической речи – метафоры, гиперболы и т. д.
Публицистика, политические (а также судебные) речи, многие письма, по языку своему – разновидность художественной литературы. Если некоторые произведения этого жанра не являются художественными, то ведь нередко бывает и так, что рассказ, по своему языку, не имеет отношения к художественной литературе. И потому то надо категорически возражать против построения «теории», которая применялась бы только к переводу художественных произведений в узком смысле слова.
Такой теории еще нет – сетует автор статьи. И хорошо, что нет, ибо, если бы она была, разрыв между «художественным» переводчиком и так называемым «нехудожественным» углубился бы еще больше.
И прежде всего хорошо, что еще нет такой теории для самих глашатаев «творческого» перевода, рекомендующих переводчикам воплотиться в Бальзака, а затем, как пишет И. Кашкин, «установить то основное и важное, что интересно и живо в нем и в наше время». Ведь, ежели бы такая теория перевода существовала, каждому бы стало ясно, что, хотя речь в ней шла бы о «художественном» переводе, но все ее методы и рецепты должны быть применены и к переводу «нехудожественному».
И вот тогда-то каждому стало бы не менее ясно к чему зовет глашатай «творческих» переводов и к чему приведет его программа. Тогда на каждой странице перевода мы столкнулись бы с тем, что вмешательство переводчика в оригинал носит далеко не безобидный характер. Предоставить каждому переводчику право решать за Диккенса или Свифта, за Тореза или Тольятти как они должны были бы писать на русском языке или по-русски говорить – это значит дать переводчику такой инструмент, который никак не по его руке, это значит дать ему возможность отступать от оригинала и вносить в него поправки, это значит выдать переводчику индульгенцию за искажение оригинала.
Недавно в своей статье в «Литературной газете» Н.С. Тихонов упомянул о том, что ему пришлось прочесть два перевода одного и того же стихотворения решительно непохожих друг на друга. К счастью, в практике нашего перевода это встретишь не часто. Но ведь каждому очевидно, что такое явление – прямой результат пропаганды «творческого» перевода, которую развил И. Кашкин.
Вот когда неизбежно вспоминается экспромт Грибоедова:
……………………………….И переводят – врут!
Зачем же врете вы, о, дети! Детям – прут!
2.
Каждый переводчик, не претендующий на то, что он написал «Юрия Милославского», мучительно бьется над задачей найти в родном языке такие формы выражения чужой мысли и чужой эмоции, которые были бы адекватны той форме, в какую их отлил автор. Подчас это бывает очень трудно, но беда многих переводчиков заключается именно в том, как правильно подчеркивала полвека назад редакция одного из русских журналов, что они «не подозревают где тут настоящая трудность: придать идеям и чувствам иностранный вид в отечественной форме».
Работая над «отечественной» формой выражения, мобилизуя все свои языковые средства выразительности для передачи мысли и эмоции иностранного автора, переводчик должен с предельной ясностью сознавать, что форма выражения Бальзака окрашена в национальный французский цвет, а у Диккенса – в английский, а каждый из этих цветов имеет множество оттенков, соответствующих индивидуальным стилевым особенностям писателя. Как часто об этом забывают, и как часто, читая перевод, не чувствуешь никакой разницы между языком Бальзака и Диккенса. И не только между языком, но и между той конкретной действительностью, которую описывает каждый из этих классиков. В этой конкретной действительности есть, и не может не быть, ряд таких черт, которые характерны только для данной страны и для определенной эпохи. Некоторые из них чужды народам других стран и потому не имеют на языке этих стран даже названий, и переводчик, который пытается найти приблизительные эквиваленты на своем языке, только введет читателей в заблуждение. Прекрасным образцом таких национальных особенностей, характерных для живой действительности является, например, пресловутая система судоустройства и судопроизводства в Англии. Диккенс сам был в молодости клерком в юридической конторе и в его романах, как известно, немало места отводится разоблачению гнусной системы английского права и процесса, выделяющейся своим безобразием даже среди правовых систем капиталистических стран. И, разумеется, не «для бутафории и не для местного колорита», как полагает И. Кашкин, переводчик должен сохранить иноязычные названия упоминаемых Диккенсом «законников», совершенно различные функции которых следует, конечно, объяснить в примечаниях. Иного выхода нет, ибо читатель, знакомый с нашей номенклатурой, иногда совершенно не поймет текста, тесно связанного с функциями всех этих действующих в романах Диккенса лиц. В некоторых случаях переводчик должен итти на жертвы, прибегая к чуждой своему языку лексике.
Во имя чего переводчик имеет право пойти на эти, да и на другие, неизбежные жертвы? Стоит только поставить такой вопрос, чтобы услышать, как сторонники «творческого» метода начинают жонглировать, подобно И. Кашкину, словами. Они, дескать, не желают обсуждать вопрос о том, какой перевод следует предпочесть – «точный» или «творческий». Они-де предпочитают, чтобы перевод был «верен» подлиннику. Но при такой постановке они проделывают нехитрую махинацию: подставляют вместо понятия «точный» понятие «буквальный», в полной уверенности, что читатель этого не заметит. Зачем это делать? Неужели они полагают будто только им известна невозможность переноса грамматической конструкции из одной языковой системы в другую, и только в редчайших случаях такие переносы удаются? Неужели, с другой стороны, они думают, что такова же судьба и стилистических оборотов, которые, в отличие от грамматических, воспринимаются чужим языком?
Сторонникам «художественно точного перевода» (не буквального, а именно «художественно точного»), т. е. точно отражающего все стилистическое своеобразие оригинала, известна не хуже, чем И. Кашкину, первая истина, а вот касательно второй следует, действительно, констатировать, что «творческие переводчики» нимало не задумываются над этим вопросом. Именно поэтому они предпочитают не перевести фразу, а рассказать ее своими словами. Именно поэтому они не обращают внимания на то, чтобы не утерять ни одного эпитета, ни одной фигуры, ни одной стилистической детали подлинника. Именно поэтому Бальзак у них ничем не отличается от Мопассана, а с первых же страниц Диккенса поражают те же самые стилистические обороты, которые мы уже знаем в переводах Колдуэлла.