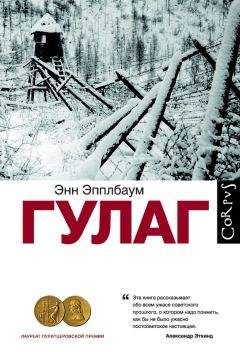Мать притянула их к себе, но они плакали не переставая. Геннадий схватил мальчика за руки, выдернул из материнских объятий и кинул на пол. «Заткнись, тебе говорят!» Мать голосила. Отец пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух. Геннадий поднял мальчика, подержал, пристально посмотрел ему в лицо и с силой бросил его о стену…
Потом чекисты разгромили дом друзей Бардаха: «Сбоку была дверь в кабинет доктора Шехтера. Посреди кабинета стоял его потемневший письменный стол красного дерева, и Геннадий пошел прямо к столу. Он провел по гладкому дереву рукой и вдруг в приступе ярости хватил по нему железным прутом. „Буржуазная свинья! Паразиты! Найдем мы вас, найдем, эксплуататоры поганые!“ Он бил все сильней и сильней без остановки, оставляя вмятины на деревянной поверхности…»
Не найдя Шехтеров, чекисты изнасиловали и убили жену садовника.
Часто такие операции проводили не специально обученные сотрудники НКВД, каким поручали «нормальные» аресты «нормальных» преступников, а конвоиры, сопровождавшие эшелоны с депортируемыми. Насилие вряд ли санкционировалось официально: просто советским военнослужащим при аресте «капиталистов» на буржуазном «Западе» пьянство, буйство и даже изнасилование сходило с рук, как сходило им все это с рук позднее во время продвижения Красной Армии через Польшу и Германию.[401]
Однако некоторые аспекты поведения арестующих жестко диктовались им сверху. В частности, в ноябре 1940-го Главное управление конвойных войск НКВД СССР постановило, что сотрудники, проводящие арест, должны говорить арестуемым, чтобы они брали с собой запас теплой одежды в расчете на три года: казенной одежды в стране не хватало. Ранее арестующих обычно инструктировали, чтобы они не сообщали людям, куда их увозят, и не создавали у них впечатления, что их увозят надолго. Говорилось примерно следующее: «Не беспокойтесь, ничего с собой не берите. Зададут пару вопросов и отпустят». Депортируемым иногда говорили, что их просто перемещают в другой район, подальше от границы, для их же защиты.[402] Делалось это для того, чтобы арестанты меньше пугались, не сопротивлялись, не пытались убежать. В результате люди не брали с собой необходимого, что помогло бы им выжить в условиях сурового климата.
Польским крестьянам, впервые сталкивавшимся с советским режимом и верившим этой лжи, подобная наивность еще простительна; однако точно такие же приемы безотказно действовали на многих московских и ленинградских интеллигентов и партийных работников, уверенных в своей невиновности и в том, что все быстро уладится. Евгении Гинзбург, которая жила в Казани и была женой видного партийного начальника, при аресте сказали, что ее задержат минут на сорок, самое большее на час. В результате она даже не попрощалась с детьми. Партийная работница Елена Сидоркина шла по улице к зданию НКВД с пригласившим ее туда следователем, «мирно разговаривая» с ним и надеясь, что ее отпустят после короткой беседы.[403]
Софье Москвиной-Бокий, бывшей жене чекиста Глеба Бокия, при аресте отсоветовали брать с собой пальто: «Зачем? Сейчас тепло, самое позднее — через час мы вернемся обратно». Это побудило писателя Льва Разгона, приходившегося ей зятем, к размышлению о странной жестокости системы: «Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой?»[404]
Жене актера Георгия Жженова, впрочем, хватило здравого смысла дать ему с собой теплые вещи. Когда ее стали уверять, что он скоро вернется, она сказала: «Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается». Она была права. Между днем, когда перед арестованным открывалась массивная железная дверь советской тюрьмы, и днем его возвращения домой обычно проходило много лет.
Если способ ареста как такового мог иной раз показаться чуть ли не эксцентрическим, последующие процедуры, напротив, стали к 40-м годам более или менее стандартными. Каким бы ни был путь будущего заключенного к тюремным воротам, за ними события шли обычным путем. Человека регистрировали и фотографировали, у него брали отпечатки пальцев, причем происходило это, как правило, задолго до того, как ему объясняли, за что он арестован и какова может быть его судьба. Первые несколько часов, а зачастую и несколько дней он не видел никакого начальства, только рядовых надзирателей, которым он был совершенно безразличен, которые понятия не имели о том, что вменяется ему в вину, и на все вопросы отвечали равнодушным пожатием плеч.
У многих создавалось впечатление, что первые часы в тюрьме нарочно обставлены так, чтобы шокировать заключенного, сделать его неспособным к связному мышлению. Вот что ощущала после нескольких часов на Лубянке Инна Шихеева-Гайстер, арестованная как дочь «врага народа»: «Здесь на Лубянке ты была уже не человек. И вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографирует, раздевает, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично. Ты ищешь человеческий взгляд, я уже не говорю про человеческий голос, человеческий взгляд — его нет. Вот ты вся расхлыснутая стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуться, а тебе пальцем показывают на табурет, пустой голос произносит: „Анфас“, „Профиль“. И тот же безразличный голос, только женский: „Повернитесь. Поднимите руки. Распустите волосы“. Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь. Вещь!»[405]
Если человека помещали в одну из городских тюрем, а не сажали, как при высылке, сразу на поезд, то он подвергался тщательному обыску, проходившему в несколько этапов. Один документ 1937 года предписывает тюремным надзирателям не забывать, что враг не прекращает борьбу после ареста и может покончить с собой, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Поэтому заключенных лишали пуговиц, ремней, поясов, подтяжек, шнурков, резинок — словом, всего, что теоретически могло послужить для самоубийства.[406] У Надежды Иоффе, дочери известного революционера, забрали резинки, пояс от юбки, шнурки от туфель, заколки для волос. Она пишет: «Помню, как меня поразила унизительность и бессмысленность всего этого. Ну что может сделать человек при помощи заколки для волос? И если даже ему придет в голову бредовая идея повеситься на шнурках от туфель, то как он практически сделает это? Просто нужно поставить его в отвратительно унизительное положение, когда падает юбка, сползают чулки, шлепают туфли».
Следовавший за этим личный обыск был еще более тяжелым испытанием. В романе «В круге первом» Солженицын описывает арест дипломата Иннокентия Володина. Через несколько часов после того, как его привезли на Лубянку, каждое отверстие его тела было обследовано: «Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще — помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:
— „Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Еще раз!“
Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда…»[407]
Для женщин такой обыск был еще тяжелее. Одна бывшая лагерница потом вспоминала, что надзирательница «забрала у нас лифчики, пояса с подвязками и другие части женского туалета. За этим последовал краткий, но отвратительный гинекологический осмотр. Я молчала, но чувствовала себя так, словно меня лишили всякого человеческого достоинства».[408]
Т. П. Милютина, в 1941–1942 годах просидевшая двенадцать месяцев в Александровском централе, подвергалась обыску неоднократно. Сокамерниц по пять человек выводили на очень холодную лестничную площадку. Надо было совершенно раздеться, положить одежду на пол и поднять руки. «Конвоир засовывал пальцы в волосы, смотрел в уши, под язык, заставлял, расставив ноги, присесть и подняться. После первого такого обыска все захлебывались слезами, у многих была истерика», — пишет Милютина.