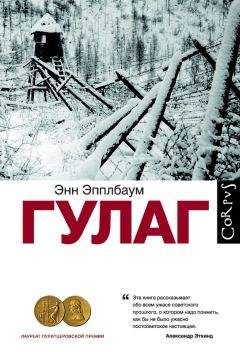Т. П. Милютина, в 1941–1942 годах просидевшая двенадцать месяцев в Александровском централе, подвергалась обыску неоднократно. Сокамерниц по пять человек выводили на очень холодную лестничную площадку. Надо было совершенно раздеться, положить одежду на пол и поднять руки. «Конвоир засовывал пальцы в волосы, смотрел в уши, под язык, заставлял, расставив ноги, присесть и подняться. После первого такого обыска все захлебывались слезами, у многих была истерика», — пишет Милютина.
После обыска некоторых арестантов помещали в одиночную камеру. «Уничтожающая идея первых часов тюрьмы, — продолжает Солженицын, — состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупее, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат».[409] В камере, где оказался Евгений Гнедин — советский дипломат, происходивший из семьи революционеров, — были только небольшой привинченный к полу столик и два табурета, тоже привинченные к полу. Две откидные полки для спанья днем опускались и составляли часть стены. Все, включая стены, потолок, табуреты и полки, было выкрашено в голубой цвет. Камера, замечает Гнедин, выглядела как «своеобразная каюта парохода».
Многих, как, например, Александра Долгана, на несколько часов или даже на несколько дней после ареста помещали в боксы. Эта была камера размером менее чем полтора на три метра. «Пустой ящик со скамейкой», — пишет Долган.[410] Польского хирурга Исаака Фогельфангера среди зимы посадили в камеру с окнами без стекол.[411] Других, в частности Любовь Бершадскую, которая позднее участвовала в лагерном восстании в Кенгире, изолировали на весь период следствия. Бершадская, которая провела в одиночке девять месяцев, пишет, что с нетерпением ждала допросов: «так хотелось с кем-нибудь разговаривать».[412]
Однако переполненная камера могла стать для новичка еще более тяжелым испытанием, чем одиночка. Описание камеры в Бутырской тюрьме, куда попала Ольга Адамова-Слиозберг, приводит на ум картины Хиеронимуса Босха: «Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами; на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос».[413]
Другой мемуарист также пытается передать свое потрясение: «Зрелище было ужасное. Длинноволосые бородатые люди, запах пота, и негде даже присесть. Нужно немалое усилие воображения, чтобы представить себе место, где я оказался».[414]
Финка Айно Куусинен, жена известного коммунистического деятеля Отто Куусинена, считала, что ее нарочно сразу поместили туда, где были слышны крики допрашиваемых: «До сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет, мне трудно описывать первую ночь в Лефортово. Камера была расположена так, что все внешние звуки были в ней отчетливо слышны. Позднее я выяснила, что внизу, прямо под стенами моей камеры, стояло низкое строение, безобидно называвшееся „отделением для допросов“. На самом деле это была камера пыток. Оттуда раздавались страшные, нечеловеческие крики, беспрерывные удары плетки. Может ли даже истязаемое животное кричать так страшно, как эти люди, которых избивали часами, с угрозами и руганью?!»[415]
Но где бы человек ни оказался в первую ночь после ареста — в старой тюрьме царской постройки, в привокзальной кутузке, в переоборудованной церкви или монастырской келье, — перед ним стояла насущная, неотложная задача: преодолеть шок, прийти в себя, приспособиться к особым тюремным порядкам и выдержать следствие. От того, как это ему удастся, зависело, в каком состоянии он покинет тюрьму и в конечном счете как сложится его жизнь в лагерях.
Из всех стадий, которые проходил арестант на пути к ГУЛАГу, западному человеку, вероятно, легче всего представить себе допрос, поскольку он описан не только в книгах по истории, но и в западной художественной литературе (например, в классическом романе Артура Кестлера «Слепящая тьма»), показан в военных фильмах и отражен в других областях высокой и низкой культуры. Крайнюю жестокость на допросах проявляли гестаповцы и испанские инквизиторы. Тактика тех и других вошла в легенду. «Мы знаем, как развязать тебе язык», — говорят и нынешние мальчишки, когда играют в войну.
Допросы подозреваемых, конечно, происходят и в демократических, правовых государствах — иногда в соответствии с законом, иногда нет. И за пределами СССР допрашиваемых порой подвергали и подвергают психологическому воздействию и даже пыткам. Тактика «злого и доброго следователя» не только вошла в разные языки как идиома, но и фигурировала в руководствах для американской полиции (ныне вышедших из употребления). В большинстве стран в те или иные времена допрос сопровождался давлением, и стремление оградить человека от такого давления побудило Верховный суд США постановить в 1966 году в решении по делу «Миранда против штата Аризона», что подозреваемого надлежит информировать, помимо прочего, о его праве на молчание и на услуги адвоката.
Тем не менее допросы, проводимые советскими «органами», уникальны если не методами, то своей массовостью. В некоторые периоды типичное «дело» включало в себя сотни людей, которых арестовывали по всему Советскому Союзу. Показательны для того времени рапорты управления НКВД Оренбургской области, озаглавленные: «Операции по ликвидации подпольных троцкистских групп, а также других контрреволюционных объединений, проведенные в период с 1 апреля по 18 сентября 1937 года». В рапортах говорится, что за пять месяцев в этой местности было арестовано 420 «троцкистов», 120 «правых», «более двух тысяч членов правой военно-японской организации казаков», «более 1500 офицеров и царских чиновников, сосланных в 1935 году из Ленинграда в Оренбург», около 250 человек «по так называемому польскому делу», приблизительно 95 человек «по делу об уроженцах Харбина», 3290 человек бывших кулаков и 1399 человек «при ликвидации преступных элементов».
В целом за пять месяцев оренбургские органы НКВД арестовали более 7500 человек, и на тщательное изучение улик у них просто не было времени. Но это было и не важно: расследование каждого из этих «контрреволюционных заговоров» инициировала Москва. Местные органы НКВД просто исполняли ее указания, реализуя спущенные сверху квоты.[416]
Из-за большого числа арестов пришлось применять специальные процедуры. Это не всегда вело к большей жестокости. Наоборот, массовость порой означала, что НКВД сводил расследование к минимуму. Человека второпях допрашивали и затем второпях приговаривали; иногда этому предшествовал краткий «суд». Известный советский военачальник генерал Александр Горбатов вспоминал, что суд над ним длился четыре-пять минут. Были сверены его личные данные и задан единственный вопрос: «Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?» Приговор — пятнадцать лет.
Других не судили вообще: приговор в их отсутствие выносило либо «особое совещание», либо «тройка». Так произошло с Томасом Сговио, чье дело «расследовалось» чрезвычайно поверхностно. Он родился в Буффало, штат Нью-Йорк, и приехал в СССР в 1935-м как политэмигрант, поскольку его отца, американского коммуниста итальянского происхождения, за политическую деятельность выслали из США в Советский Союз. За три года, проведенные в Москве, Сговио постепенно разочаровался и решил отправиться домой, для чего попросил вернуть ему американское гражданство, от которого он отказался по приезде в СССР. 12 марта 1938 года, выйдя из американского посольства, он подвергся аресту.
Следственное дело Сговио, фотокопию которого он десятилетия спустя сделал в московском архиве и затем подарил Гуверовскому институту, невелико по объему, что соответствует его воспоминаниям о событиях. Имеется список того, что нашли при нем во время первого личного обыска: профсоюзная книжка, блокнот с адресами и телефонами, читательский билет библиотеки, лист бумаги «с надписями на иностранном языке», семь фотографий, перочинный нож, конверт с заграничными марками и так далее. Есть бумага за подписью капитана госбезопасности Сорокина, где говорится, что подозреваемый вошел в посольство США 12 марта 1938 года. Есть показания свидетеля о том, что подозреваемый вышел из посольства в 13.15. Имеются также протоколы первоначального расследования и двух кратких допросов; на каждой странице — подписи Сговио и следователя. Первое заявление Сговио гласит: «Я хотел вернуть себе американское гражданство. Три месяца назад я в первый раз пошел в посольство США и подал просьбу о возвращении гражданства. Сегодня я пошел опять. <…> Секретарша сказала мне, что сотрудник, который занимается моим делом, отлучился на обеденный перерыв, и посоветовала прийти через час или два».[417]