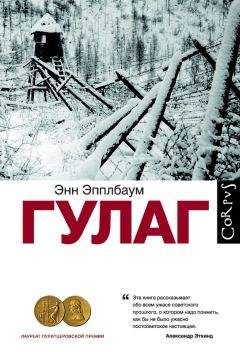Последующие допросы большей частью состояли в том, что Сговио вновь и вновь заставляли рассказывать о подробностях своего визита в посольство. Только один раз от него потребовали: «Расскажите нам все о вашей шпионской деятельности!» Он ответил: «Вы знаете, что я не шпион», и больше на него, судя по всему, особенно не давили, хотя допрашивающий с неопределенно-угрожающим видом поглаживал кусок резинового шланга, какими обычно избивали заключенных.[418]
Хотя сотрудников НКВД дело Сговио не слишком интересовало, они, конечно же, не сомневались в его исходе. Несколько лет спустя, когда Сговио потребовал отмены приговора, прокуратура решила, что поскольку он не отрицает, что подал в посольство просьбу о возвращении гражданства, для пересмотра дела нет оснований. Признание Сговио в том, что он действительно был в посольстве и хотел покинуть СССР, «особое совещание» сочло достаточным основанием, чтобы приговорить его к пяти годам как «социально опасный элемент». Его случай был рутинным. Захлестнутые потоком дел, следователи ограничились минимумом.[419]
Бывали случаи, когда людей сажали с еще меньшими основаниями и допрашивали еще поверхностней. Поскольку тот, кто попадал под подозрение, автоматически считался виновным, людей очень редко отпускали просто так — хоть какой-то срок, но давали. Советский еврей Леонид Финкелыптейн, арестованный в конце 40-х, рассказал мне, что хотя правдоподобного обвинения в его адрес выдвинуть не смогли, ему все-таки дали сравнительно небольшой семилетний срок: о признании «органами» своей ошибки не могло быть и речи. С. Г. Дурасов вспоминает слова одного из следователей, которые вели его дело: «Мы без вины никого не берем. А если бы даже за тобой и не было вины, выпустить нельзя, будут говорить, без вины берут».[420]
С другой стороны, когда у НКВД возникал интерес, в частности, когда интерес возникал лично у Сталина, отношение следователей к людям, взятым в ходе массовых арестов, могло мгновенно измениться от безразличного к злобному. В некоторых случаях от следователей требовали широкомасштабной фабрикации улик, как, например, в 1937 году при «вскрытии и ликвидации» того, что Николай Ежов в закрытом письме назвал «крупнейшей и, судя по всем данным, основной диверсионно-шпионской сетью польской разведки в СССР».[421] Если вялые допросы Сговио — одна крайность, то массовая операция против этой якобы действовавшей в СССР польской шпионской сети — другая: людей допрашивали с единственной целью — выбить из них признание.
Начало операции положил оперативный приказ НКВД СССР № 00485, в определенном смысле ставший основой и для позднейших массовых арестов. В приказе были четко перечислены категории лиц, подлежащих аресту: все оставшиеся в СССР после войны 1920–1921 годов польские военнопленные; все перебежчики и политэмигранты из Польши; все бывшие члены польских «антисоветских» политических партий; «наиболее активная часть местных антисоветских националистических элементов польских районов». На практике под подозрением оказались все живущие в СССР лица польского происхождения, а их было много, особенно в приграничных районах Украины и Белоруссии. Операция приняла такой размах, что польский консул в Киеве, описывая происходящее в секретном отчете, отмечал, что в некоторых населенных пунктах забирали не только всех поляков подряд, но и всех, от директора фабрики до крестьянина, чья фамилия была похожа на польскую.[422]
Но арест — это только начало. Поскольку польская фамилия — еще не основание для того, чтобы дать человеку срок, приказ № 00485 предписывал региональным органам НКВД «одновременно с развертыванием операции по арестам вести следственную работу. Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов и руководителей диверсионных групп с целью исчерпывающего выявления диверсионной сети».[423]
На практике, как и во многих других последующих «операциях» такого рода, это означало, что арестованные сами должны были под давлением предоставить «улики» против себя. Система была проста. Арестованного поляка спрашивали о его связях в «диверсионной сети». Получив ответ, что он ни в какой «сети» не участвовал, его избивали или подвергали иным пыткам до тех пор, пока он не «вспоминал» то, что от него требовалось. Ежов, лично заинтересованный в успехе «операции», присутствовал на некоторых пытках. Если заключенный подавал официальную жалобу на такое обращение, Ежов приказывал подчиненным не обращать на нее внимания и «продолжать в том же духе». От признавшегося требовали назвать «сообщников», после чего начинался новый цикл. Так «диверсионная сеть» росла и росла.
За два года в ходе так называемой «польской операции» было арестовано более 140 000 человек, что, по некоторым оценкам, составляет почти 10 процентов от общего числа репрессированных во время Большого террора. При этом пытки и принуждение к самооговору использовались настолько широко, что в 1939 году, когда власти ненадолго смягчили свою политику репрессий, НКВД провел расследование допущенных в отношении поляков «ошибок». Один подпавший под расследование сотрудник НКВД показал на допросе, что избивать подследственных можно было без ограничений — никаких особых разрешений на это не требовалось. Тем, кто выражал разного рода сомнения, было прямо сказано, что «приказ согласован со Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить вовсю».[424]
Хотя позднее Сталин раскритиковал «упрощенный порядок расследования», есть данные о том, что он лично санкционировал применение подобных методов. В частности, в докладной записке, которую в 1947 году направил Сталину Виктор Абакумов, специально отмечается, что главная задача следователя — «добиться получения от него (арестованного) правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы».[425] Вопрос о пытках и избиениях Абакумов обходит стороной; однако он пишет, что следователь «изучает характер арестованного» и на этой основе решает, какой режим — легкий или строгий — к нему применить и как эффективнее употребить «метод убеждения с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия и т. д. <…> Иногда для того чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МВД все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих и др».
То, что советские «органы» придавали признанию вины столь большое значение, в прошлом объясняли по-разному, и этот вопрос по-прежнему обсуждается. Некоторые считают, что это шло с самого верха. Роман Бракман, автор неортодоксальной биографии Сталина «The Secret File of Joseph Stalin» («Секретная папка Иосифа Сталина»), считает, что советский лидер страдал навязчивой идеей, заставлявшей его принуждать заключенных признаваться в преступлениях, которые совершал он сам. По версии Бракмана, Сталин до революции был агентом царской охранки, вследствие чего у него потом развилась потребность добиваться от других людей признаний в предательстве. Роберт Конквест тоже считает, что у Сталина была эта потребность, по крайней мере в отношении тех, кого он знал лично: «Сталину нужно было не только убивать старых противников, но и уничтожать их морально и политически». Впрочем, это, конечно, относится лишь к единицам из миллионов арестованных.
Но потребность добиваться признательных показаний, судя по всему, испытывали и следователи. Возможно, признания давали им некое ощущение правомерности собственных действий: они помогали им воспринимать безумие массовых произвольных арестов как нечто более гуманное или по крайней мере более законное. В операциях, подобных «польской», признание, кроме того, давало «улики», необходимые для новых арестов. И еще: советская политико-экономическая система была маниакально сосредоточена на постановке и решении задач, на выполнении плана, нормы, и признание служило конкретным «доказательством» успешно проведенного следствия. Конквест пишет: «Утвердилось представление о том, что признание вины — лучший из возможных результатов. Сотрудников НКВД, которые его добивались, считали передовиками, а отстающий сотрудник НКВД не мог рассчитывать на долголетие».[426]
Каков бы ни был источник сосредоточенности НКВД на признаниях, заключенный чаще всего не испытывал на себе в чистом виде ни той губительной целеустремленности, что видна в деле «польских диверсантов», ни того безразличия, с каким отнеслись к Томасу Сговио. Обычно налицо была смесь того и другого. Чекисты крайне жестко требовали от подозреваемого порочащих сведений о нем самом и о его знакомых, и они же проявляли наплевательскую незаинтересованность в исходе дела.