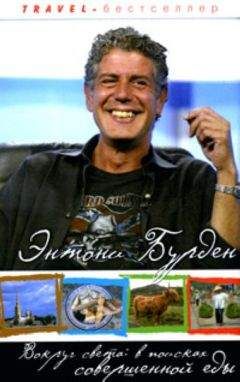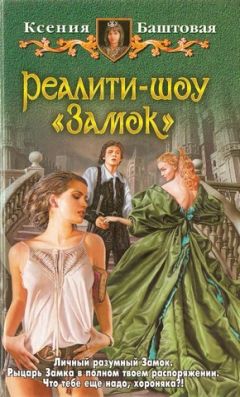Он организовал настоящий Вудстокский фестиваль на своем маленьком ранчо у подножия холма в окрестностях Исукара. Похоже, это было самое значительное событие в городе с тех пор, как разбили французов, — триумфальное возвращение Эдди Переса. Он нанял музыкантов марьячи , а также поп-группу. Планировались танцы и песни вакерос и показательные выступления с лассо. Место действия — пыльный, залитый солнцем участок земли, ряд низеньких домиков на заднем плане, на переднем — дом в стадии строительства. Цыплята, петухи, коровы, свиньи, ослы, козы свободно бродили по окрестным холмам среди кактусов. Эдди пригласил весь город: мэра, главу местной мафии, самую разношерстную публику. Он нанял всех полицейских соседнего городка, которые в тот вечер у себя дома не были при исполнении, чтобы они обеспечивали порядок, и целую армию женщин для обслуги. Работники с ранчо выкопали яму для барбакоа. Мальчики в аккуратно застегнутых на все пуговицы рубашках и девочки в платьях для причастия бегали по мелким поручениям и подносили кухонную утварь. Запасы пива, текилы, мескаля были неисчерпаемы. Варился пунш из свежих фруктов. Под соломенным навесом поставили длинные столы. Это должен был быть праздник века.
А для меня между тем настал мой День настоящего ковбоя. Одно дело появиться в ковбойских штанах и ботинках в Нью-Йорке; и совсем другое — ходить по здешней пыли в ботинках Тони Лама; или сидеть в темном углу у глинобитной стены, покачиваться на стуле, положив ноги на ящик. В Нью-Йорке вы можете появиться в ковбойской шляпе, только если вы приглашенный танцор на празднике, под солнцем Пуэблы она — насущная необходимость. Я надвинул новенькую шляпу на глаза, чтобы мой уже обгоревший и облезающий нос оказался в тени, и мне было вполне прохладно. Забрел в какую-то хозяйственную постройку, где несколько ранчерос уже разливали текилу в короткие плохо вымытые стаканы, стряхнул пыль с полей шляпы и проскрипел:
— ! Tequila… por favor! [66]
Сидя вместе с Эдди и Мартином, одетыми как настоящие ранчеро, — в ковбойских шляпах и ботинках, — глядя на женщину, похожую на Антонио, которая пекла лепешки в нескольких ярдах от нас, узнавая черты своих нью-йоркских помощников в чертах женщин, готовящих рис в глиняных горшочках на открытом огне, девочек, чистящих кактус для салата из его листьев, старого мороженщика, вручную сбивающего мороженое со свежим лаймом, я был счастлив как никогда. За тысячи миль от Нью-Йорка я чувствовал себя в своей семье, на своей родной кухне.
Большой праздник начался с того, что выкопали большую яму — размером с могилу.
На дне ее развели костер и дали ему прогореть до углей. Когда все было готово, ранчерос поставили в яму большие котлы с супом из козьих голов. Голые черепа, завернутые в листья авокадо, опускают в суп в последнюю секунду, держа их за рога. Внутри черепов — овечьи желудки, наполненные кровью, специями, мятой — что-то вроде мексиканской кровяной колбасы. Затем сверху положили пять коз целиком, выпотрошенных и распластанных, как бабочки, и накрыли их опять-таки листьями авокадо. Коз забили утром того же дня. Их кожа теперь сушилась, распяленная на крыше дома Эдди. Затем яму прикрыли ковриком из плетеной соломки, пропитанным водой, и забросали грязью. Еда должна готовиться около трех с половиной часов.
Между тем все вокруг оживилось. Из сонной, залитой солнцем пустыни ранчо быстро превращалось в гудящий улей. Стали прибывать гости. Заиграли марьячи, певцы пока пили пиво и настраивали свои инструменты; парнишка, в котором я узнал бывшего помощника официанта в Нью-Йорке, украшал столы цветами. Пары начали танцевать. Малыши играли в пятнашки. Мужчины расселись за длинными столами, женщины и дети — на складных стульях во втором ряду. Эдди, который в Нью-Йорке спиртного в рот не берет, был уже пьян, — и без того убойный пунш он усугубил текилой. Остальные ранчерос тоже были уже хороши, а ведь вечеринка еще только началась.
—Ни о ч-чем не беспокойтесь, — сказал Эдди, сделав картинный жест в сторону вооруженных людей, расставленных у подножий окрестных холмов. — П-пейте! Все, что хотите. Текилу, мескаль, мату. Как вам? Нравится? Все хорошо? Главное, не волнуйтесь. Захотите поспать — нет проблем. Спите где хотите. Хоть на земле вместе с цыплятами. Хоть где. Вы в безопасности. Полиция охраняет. Никто вас не тронет.
— Боже мой, Эдди! — воскликнул я. — Тебе есть чем гордиться… Это ведь ты все устроил!
Суп из козьих голов получился потрясающий — одно из самых вкусных блюд, какие я когда-либо ел. Козлятина была на удивление нежная, просто восхитительная. Фаршированные желудки стали настоящим откровением для меня — чудесная острая кровяная колбаса. Я постарался попробовать всего, в том числе салата из кактусов и всяких соусов — накладывал себе еду на еще теплые тортильи, которые можно было брать из стоявших повсюду корзин, покрытых салфетками. Я поел риса, еще салатов, тамалес, потрясающей сырной кесадильи [67] с цуккини и мягким сыром.
А есть ли на свете музыка сентиментальнее, романтичнее, трогательнее, чем та, которую играют мексиканские марьячи! Ну ладно уж, пожалуй, самба может сравниться с ней. Но в тот вечер — когда солнце садилось за холмы, а вокруг раздавался смех и звучал мексиканский диалект испанского, — мне показалось, что я никогда не слышал ничего красивее этой музыки. Вакеро показывал разные штуки с лассо. Другой пел, сидя верхом на лошади, а лошадь под ним приплясывала, пятилась назад, ложилась, опускалась на колени. Уже после захода солнца, при свете расставленных всюду прожекторов и развешенных гирлянд рождественских лампочек, вакеро спешился, с хмурой торжественностью поднес ко рту микрофон, и тоном, каким обычно говорят спортивные комментаторы, с очень раскатистыми «эр-р», указывая на меня, провозгласил: «А тепер-рь, сеньоры… север-роамериканский шеф-повар-р, гость из Нью-Йор-рка, знаменитый Энтони Бур-р-рден!»
Толпа взревела. Музыка прекратилась, марьячи выжидательно смотрели на меня. Я знал, чего от меня ждут, и, пошатываясь, под гиканье и улюлюканье Эдди, нескольких операторов и еще некоторых выскочек из публики, направился к лошади, в центр освещенного круга. Я поставил ногу в стремя и легко взлетел в седло. Несколько недель в летнем лагере и два урока на Клермонских конюшнях пришлись мне удивительно кстати. Я был пьян, держался нетвердо, но подо мной была поистине чудесная лошадь. Натренированная на танцы, она чутко отзывалась на каждое мое прикосновение, она пускалась в легкий галоп, повинуясь едва заметному движению моей ступни. Я вполне уверенно объехал вокруг двора, снял шляпу перед собравшимися, остановился и щеголевато спрыгнул наземь, чувствуя себя ужасно глупо, но в то же время испытывая истинный восторг.
Дружок Эдди, которого он мне представил как главу местной мафии, настоял, чтобы я и несколько человек из съемочной группы сыграли с ним в игру под названием «кукарача». Это, дескать, будет матч между командами США и Мексики. Итак, мне и двум операторам, а также главному мафиозо и двум его приспешникам подносят смесь ликера «Калуа» и текилы в пропорции пятьдесят на пятьдесят, подожженную и еще горящую. Нам объяснили, что вся фишка в том, чтобы опустить в напиток соломинку и выпить пылающий эликсир, пока он не погас. И так — до тех пор, пока одна из команд не попросит пощады или ее члены не упадут без чувств.
Команда США показала себя хорошо. Мы вышли из этого испытания с честью — каждый выдержал по пять заходов, и не подпалил собственных волос, и не задохнулся. Но мексиканцы, безусловно, были лучше. В конце концов в знак дружбы и солидарности между народами решили сделать шестой раунд последним для обеих команд. Так нам всем удалось спасти лицо — к тому времени мы уже лыка не вязали.
Мэтью покинул ранчо вместе со всеми, на своих ногах, но стоило нам сесть в машину и проехать немного, как он взмолился, чтобы остановили. В последние несколько месяцев на разных континентах Мэтт проявлял поразительную бесчувственность к моим желудочным расстройствам. Он, не колеблясь, заставлял меня глотать любую гадость и давиться ею, если только ему казалось, что это будет интересно зрителю. Он снимал меня лежащего без сил в постели, ползающего по полу, умоляющего о помощи. Так что, когда мы остановили машину и бедный Мэтт при свете прожекторов шлепнулся наземь, как мертвое тело, а очнувшись, на брюхе пополз к ближайшей канаве, я взял в руки камеру. Настал мой черед. Пришел час расплаты. Вот он, мой золотой кадр. Мне нужно было всего лишь навести камеру, нажать кнопку — и все в нью-йоркском офисе — редакторы, продюсеры, все, все, все смогут увидеть (и при желании — не один раз), какое возмездие постигло наконец моего обидчика и мучителя. Освещение было идеальное. Большего драматизма и представить себе невозможно: пустынная проселочная дорога, выхваченный из полной тьмы прожектором круг, темное тростниковое поле на заднем плане. Я поднял камеру, навел…