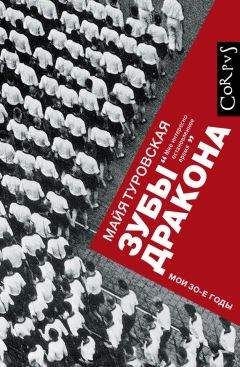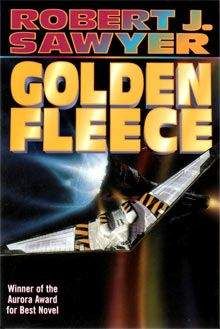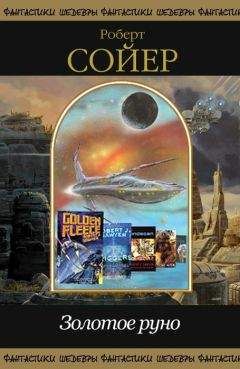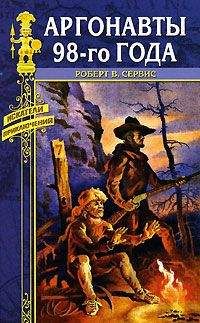Разумеется, Пырьев, который, как мы говорили, никогда не выходил на сцену, не прикрывшись характерностью жанра, обратился на этот раз к условности мелодрамы. Сдвиг жанра нетрудно проследить по типажу исполнителя. Если в колхозных комедиях это «народный» герой – Н. Крючков, если для оперетты «В шесть часов вечера после войны» Пырьев берет тип мужественного и оптимистичного красавца Е. Самойлова, то на роль Андрея Балашова приглашает молодого актера редкого «демонического» типа – В. Дружникова. Но мелодрама эта была «стыдливая», притворяющаяся, в свою очередь, психологической драмой. На этой почве между Пырьевым и его зрителем (имеется в виду то, что называется широким, массовым зрителем), который обычно легко и готовно принимал предложенную условность, возникал дискрепанс. В своих воспоминаниях режиссер раздраженно отвечал на те многочисленные письма, в которых зрители впервые и категорически требовали от него житейского правдоподобия, когда Андрей Балашов, не взяв расчета и паспорта, исчезал со стройки в неизвестность или Наташа Малинина отказывалась лететь на международный конкурс в Америку, чтобы остаться с любимым в сибирской чайной.
Та естественная мифологизация темы и образов, которая делала «Трактористов» незаменимым и подлинным «документом эмоций» эпохи, не случилась. Можно даже не вспоминать, что «Сказание» было сделано по скорым следам памятного постановления о фильме «Большая жизнь»[223], чтобы уловить в самой его художественной ткани расчетливую запрограммированность.
На уровне сюжета «Сказания» народность, как никогда до этого, противопоставлялась не-народности, а, попросту говоря, интеллигенции, и чайная была призвана всерьез учить искусству консерваторию. Прежняя естественная народность Пырьева заменялась многозначительной «проблемой народности». По-видимому, не случайно чистая сказовость в сценах вторжения Ермака в Сибирь удалась Пырьеву так же мало, как экскурсы в область психологической драмы. Его сила была как раз там, где фольклорный жанр скрещивался с современностью.
И так как музыка у Пырьева никогда не была безразлична к жанровой природе фильма и всегда выражала ее наиболее точно, то не случайно, что впервые ни одна песня из фильма не сошла с экрана в жизнь и не стала массовой.
Современность была привнесена в картину на этот раз не через столь любезный сердцу Пырьева жанризм, но в своем верхнем, официозном, слое. Нарушив границы завоеванной им же территории полусказки-полубыли с намеком и уроком (естественно, государственным, каким же еще?), Пырьев впал в нестерпимую ходульность, часто свойственную ему на территории «правды жизни».
Не парадоксально ли, что в этой картине если что имеет ранг свидетельства, то лишь самое далекое от правды. Дистанция во времени многое меняет в восприятии фильма, как и любого произведения. Но кино в силу своей натурности имеет в этом смысле некоторые особенности. Так, по мере удаления во времени теряется мера достоверности в антураже. Зато резко возрастает удельный вес условностей, на которых зиждется его структура и стиль.
В фильмах, некогда жизнеподобных, казавшихся безусловными, проступает их каркас, их жанр так же, как условность съемки (пример тому – вся продукция 30-х во главе с «Чапаевым»). Напротив, даже явные «улучшения» натуры, предпринятые режиссером в целях «лакировки», из отдаления времени сливаются с общим документально подтвержденным и засвидетельствованным стилем эпохи.
Так, нахальное неправдоподобие апартаментов, в которых живет в Москве Наташа со своим дядей, профессором консерватории, которое прямо-таки резало глаз современникам, не только потеряло былую одиозность, но вообще остается сегодня незамеченным. Уже трудно вспомнить, что рядовые профессора жили не то что не в хоромах – в коммуналках с одним роялем вместо мебели. Но дело даже не в поправке на отдельных «лучших», для которых была выстроена парадная улица Горького и высотные дома. Дело в том, что Пырьев достоверно воспроизвел в своей «лакировке» дух и эстетику сталинской эпохи – государственный стиль ее архитектуры и убранства: с лепниной высоких потолков, с медными ручками массивных дверей, с сияющим паркетом, – отнюдь не поставленный на поток стиль изобилия и богатства, за вычетом самого изобилия. И никто лучше него этот стиль не воспроизвел. В этом смысле «Сказание», как и ВСХВ, как высотные дома, как облицованные гранитом цоколи улицы Горького, как станции метрополитена, – документ официального эстетического вкуса эпохи. (Помню, как поразила нас в свое время неожиданная символика станции метро «Площадь Революции»: сочетание богатства материалов, мрамора и бронзы с согбенностью огромных фигур все тех же «представителей» рабочих, колхозников, пограничников и т. д., пригнетенных сводами арок.)
Сюда же – по ведомству «лакировки», – казалось, можно было бы отнести сибирскую чайную с резными хорами, с десятками медных самоваров, с несметными пузатыми чайниками в розах, с жостовскими подносами – весь этот грандиозный пырьевский лубок, который сейчас довольно манерно и упадочно подправляется «модерновостью» в нуворишеских теремах à la rus в избах-ресторанах, которыми обстроилась на своих подступах Москва и города, входящие в интуристовские маршруты. Никто, конечно, таких чайных тогда не видал. Но это было то, в чем Пырьев знал толк, – фольклорное преувеличение. Недаром удалась режиссеру как раз сопутствующая линия фильма – ложная соперница Наташи Настенька и влюбленный в нее Яков Бурмак. Их свадьба со сказочными тройками, летящими сквозь пушистую сибирскую зиму, с полыхающими на снегу полушалками – все это нарядное, откровенно и подлинно лубочное принесло фильму искомый зрительский успех, ибо было сделано по известной формуле на скрещении фольклора и современности. Роль Настеньки на многие годы обеспечила всенародную популярность Верочке Васильевой, а Борис Андреев, как никто в этой картине, вывел на поверхность сказовую природу пырьевского жанра, совместив тип «комического богатыря» с конкретной профессией водителя автобуса. Здесь режиссер использовал подмеченную им еще в «Трактористах» эпическую возможность дарования молодого актера. Недаром именно этим персонажам сопутствовали в фильме традиционные перипетии ложных узнаваний и веселой путаницы. Впоследствии Андреева именно в этом эпическом качестве русского богатыря – естественно, за вычетом комических черт этого богатырства, как и конкретности профессии – сделал М. Чиаурели героем «Падения Берлина» и олицетворением русского народа.
Но если на уровне целого Пырьев сам спровоцировал зрителя на неприятие условности жанра, поведя его по ложному следу, то было и еще одно обстоятельство более общего свойства, которое к этому времени превратилось уже в целую систему, в определенный стереотип зрительского восприятия.
Теоретический постулат социалистического реализма, понятого как прямое жизнеподобие, приобрел такую власть над умами, что любое кино рассматривалось в прямом сопоставлении с реальностью – как «отражение жизни». Этот стереотип восприятия заключал в себе две возможные ипостаси. Если за основу брался фильм, то горе было реальности: она обязана была выглядеть «как в кино» – и хуже, считалось, что так она и выглядит. А слишком уж нахальная условность стыдливо порицалась как некоторое отступление от «правды жизни». Если же за основу бралась реальность, то горе было фильму – он был «лакировкой». Оба упрека были двумя сторонами одного и того же соцреалистического стереотипа, который признавал лишь один способ отношений с действительностью: прямое – «прогрессивное» – или подрумяненное подобие.
Фильмы Пырьева, как никакие другие, дали повод для обеих аберраций, а «Кубанские казаки» – как никакой другой из его фильмов.
Классический образец первой и социально агрессивной аберрации дает книга А. Михайлова 1952 года «Народный артист СССР Иван Пырьев».
Кадр из фильма «Кубанские казаки»: Пересветова – М. Ладынина, Ворон – С. Лукьянов.
«Прекрасное – есть жизнь» – эти замечательные слова Чернышевского можно было бы поставить эпиграфом к картине Пырьева. В картину, воспевавшую красоту и счастье социалистической действительности, режиссер смело вводит мотивы, казалось бы, далекие от этой действительности по своей традиционности и известной условности. Однако в фильме эти традиционные мотивы начинают звучать по-новому, воспринимаются как органически присущие нашей жизни… И если в отдельных кадрах еще ощущались моменты стилизации, то в целом фильм отнюдь не производит впечатление какой-либо архаики.